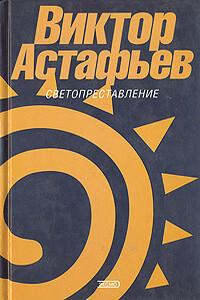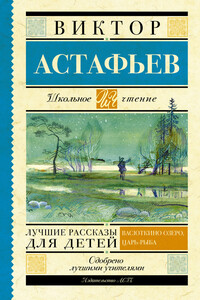Зрячий посох | страница 111
А Елена-то Алексеевна, человек очень старый, обросший друзьями и знакомцами, порой и знаменитыми (она, к примеру, училась вместе с будущей мировой кинозвездой Милицей Корьюс в гимназии, и где бы вы думали? В Киеве! И зовет ее по старинке Милкой. Но об этом я расскажу как-нибудь отдельно). Так вот, старушка моя, живет она в доме престарелых актеров и времени у нее очень много, всем-всем друзьям, вплоть до Парижа, сообщила, что вот дожила, удостоилась рассказа с посвящением, а посвящение-то и тю-тю.
Елена Алексеевна начинала сниматься еще в немом кино, работала во многих театрах, в том числе и у Мейерхольда, навидалась и натерпелась всего, выносила и не такие удары и несправедливости, но все-таки зачем это? Почему? Рассказ «Старое кино» я, между прочим, много раз переиздавал, и как только недосмотришь, как потеряешь бдительность — нет посвящения, исчезло. Воистину черт горами ворочает, но пакости творит невежда с обычным человеческим лицом, обыкновенными человеческими руками и не всегда затрудняется понять и осмыслить, что пакостное дело злее Божьего.
Вот вам пример обратного порядка — уже с посвящением мне.
Возвратился из поездки по Алтайскому краю Николай Рубцов, возвратился просветленный, сияющий, душевно обогатившийся — человек тихой вологодской земли, он открыл новую и очень красивую, не похожую на его родину ни нравом, ни видом, буйную и пространственную страну Сибирь.
Открытие потрясло и вдохновило поэта. Он привез с собой новые стихи и замыслы и, поскольку жили мы через два дома, сразу же явился к нам поделиться своим богатством и душевной радостью (других материальных благ и богатств у него никогда не было, да они ему были и ни к чему).
Хорошие, уже зрелые стихи читал нам Николай Михайлович. Чувствовалось, что он переживает какой-то внутренний подъем, что в поэтическую зрелость входит душевно обогащенным, готовым решать большие нравственные задачи, жить в поэзии не по заниженной норме, как живут и благополучно прозябают в ней целые косяки посредственности. Жить и творить по завышенным нравственным и гражданским задачам трудное дело, но оно становилось поэту по плечу.
Примерно это я и говорил тогда Николаю Михайловичу, Коле, как всегда до самой смерти дружески и братски называл я его, говорил как старший брат и сотоварищ по перу. Коля зарделся, бормотал какие-то неуклюжие ответные слова и все спрашивал, с какой-то, как ему казалось, тайной, на самом же деле легко отгадываемой детской многозначительностью: «А какое? Какое стихотворение, Виктор Петрович, тебе из сибирского цикла больше понравилось?» И я ответил: «Шумит Катунь». Коля ушел в мою комнату, сказал, чтоб ему не мешали, оттуда вернулся, сияя своими маленькими, выразительными черными глазками, и всем лицом сияя, и протянул мне листок со стихотворением «Шумит Катунь», сверху которого было написано: «В. Астафьеву».