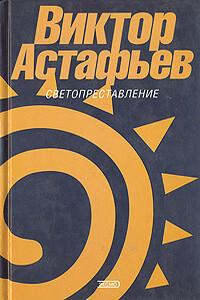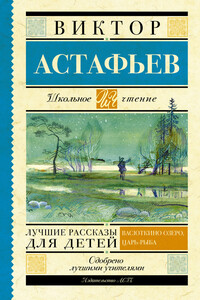Зрячий посох | страница 104
Видимо, с апрельской поездкой у Вас тоже разладилось. Я все ждал, что Вы приедете, а Вы еще по льду реку собираетесь переходить. А у нас и лед давно прошел.
Через неделю-полторы я надеюсь из больницы выбраться. Лечащий врач на меня смотрит одобрительно. А к профессорам и консультантам, славу богу, меня здесь не таскали — так, вливают в вену глюкозу с витамином да рыбий жир впускают с другого конца. Вот и все лечение. Ну, еще порошки какие-то дают.
Толя лежит в соседнем корпусе. Вижу его каждый день. Он то в веселом настроении, то впадает в меланхолию, когда ему вливают кровь. К маю его тоже, видимо, выпустят. Наташа превратилась в чиновника по особым поручениям при моей персоне, по-современному говоря, просто в курьера и совсем измучилась, бедняга, Аннета и Юра цветут.
Вот и все пока.
Низко кланяюсь Марии Семеновне. Привет всем домочадцам. И помните, Вашей лирической публицистикой, как бы ни восторгался ею, Вы на люди не выйдете. Подумайте о чем-то большем.
Целую Вас. Ваш А. Макаров.
В один из последних приездов в Москву я рассказал Александру Николаевичу повесть «Пастух и пастушка» и о том, как возник замысел этой повести. А возник он прелюбопытно, вроде бы и случайно, но и закономерно, совершенно не похоже на другие замыслы.
Я работал в областном Пермском радио корреспондентом по горнозаводскому направлению и однажды, едучи в город Кизел — центр угольного бассейна, совершенно для себя неожиданно проспал свою остановку и с испугу вышел на каком-то глухом разъезде, с пачкой сигарет и книгой «Манон Леско» в кармане. Забравшись на гору, я целый день читал эту книгу и курил табак.
Был солнечный осенний день, вдали меланхолично курились копры, тихая гористая земля, ископанная, исковерканная человеком, подрытая, подернутая желтой травкой, испятнанная пнями спиленных лесов по косогорам, исполосованная электро- и всякими другими линиями, грустно молчала под тихим, тоже синеньким небом, по которому растекалась дымная муть и, словно бы не решаясь грязнить вечную, синюю небесную святость, отслаивалась от неба, приникала к хребтам, оседала на них.
Чем-то древним и грустным прошибало и это «промышленное» небо, и эту старую уральскую землю, изрытую, пустынную, из недр которой люди добывали уголь, руду и всякую всячину, необходимую для того, чтобы крутить колеса заводов и машин, заряжать орудия войны и труда, строить и сносить, сажать и рубить, и поскольку самого человека нигде на этом унылом разъезде не было видно, а сердце ныло от только что прочитанной книги, поведавшей о страдальческой и прекрасной любви Де Грие и ветреной Манон, ветреность которой, впрочем, была не оскорбительная, не отталкивающая, наоборот, даже манящая, — то и возникла во мне тоска по человеку чувства, что ли, — но не только работы, еды и необходимого для утоления плоти и продления рода физического сближения. «Ну неужели мы разучились любить и страдать так же возвышенно, «до смерти», как в те давние годы любили эти вот двое, скорее всего выдуманные аббатом Прево?» — такой или примерно такой вопрос задавал я себе тогда, а писатель, да еще молодой, задавши себе вопрос, немедленно захочет получить на него ответ. А так как вопрос-то возник «вечный», то и ответа на него не было, надо было искать его в жизни людей окружающих и тех, что были с нами и до нас…