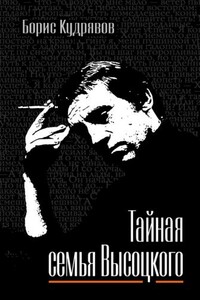Родина и чужбина | страница 88
Когда же заходила речь об Александре, о его отказе продолжать переписку, она находила и для него самые ласковые слова. Склонив голову, сидя на грубо сколоченной скамье, она погружалась в раздумье и, собравшись с мыслями, высказывала их вслух, но можно было подумать, что и не для нас, как бы только для себя, без какой-либо доли сомнений в его сыновнюю преданность и любовь к ней.
— Знаю, чувствую, верю… нелегко было, — говорила она, — решиться ему на такое письмо, да уж видно, сыночку моему нельзя было… по-другому… карусель в жизни такая, что поделаешь? — тихо, прерываясь и дрожа, облекала она свои мысли в слова из своей материнской души.
Отец продолжал присылать сто рублей каждый месяц. И хотя трудно и мало чего можно было купить на них, все же это была поддержка. Приходили от него и письма, которые всегда начинались одними и теми же словами: "Дорогие мои горемыки!" Писал он карандашом, и знакомый нам почерк с признаками неукоснительных правил каллиграфии давних лет детства был дрожаще-скачкообразным и напоминал о его огрубевших от постоянной работы молотком руках. Из писем было ясно, что ему ничего неизвестно о нас, о Константине и обо мне, и что он пытался узнать что-нибудь через родственников, полагая, что, может, им мы писали о себе, но и родственники ничего не знали. О том, что я и Константин находимся на прежнем месте ссылки, он, по-видимому, и мысли не допускал. Обо всем писал осторожно, по именам никого не называл, а лишь как-то так: "О ребятах спрашивал в письме к свояченице, но она ничего не знает". Или: "Ребята никому не пишут". О том, что отец побывал в Смоленске, прежде чем оказаться в совхозе «Гигант» Можайского района, что имел встречу с Александром, он, понятно, ничего не писал. Как произошла эта встреча и чем она закончилась, подробно мне стало известно позже, непосредственно от самого отца, но об этом ниже, чтобы не нарушить хронологию.
В начале марта мы все еще ходили на ту отдаленную лесосеку. Случались ясные дни, солнце пригревало в таежной глуши, и передохнуть можно было, не разжигая костра. Минуты отдыха мы устраивали по исполнении намеченного себе задания: "Вот повалим еще вон ту ель и — перекур", — ставили себе условие. И было веселее и вроде бы легче работать — испытываешь чувство призрачной свободы. Так и получалось: дотянув до намеченного, присядешь, бывало, на пенек или на хлыст и так облегченно вздохнешь и словом перемолвишься. Константин закурит, а я в мечтах уже на Смоленщине: друзей вспоминаю, родное Загорье и где только не побываю, да, случалось, и усну тут же — усталость одолевала меня. И вздрогну, спохвачусь, а брат уже сучья обрубает: тюк-тюк; меня пожалел, не окликнул.