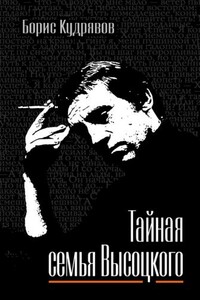Родина и чужбина | страница 86
Не знаю, как это может восприняться сегодняшним читателем, может, мне кто-то не полностью поверит, что тем далеким вечером мы шли по примеченной тропинке к поселку с чувством, как ни странно, исполненного долга собственной совести — все, что было в наших силах, — сделали, не слукавили. Было морозно и тихо, дышалось легко, и мы, несмотря на недавнюю этапную измотанность и усталость от работы, как-то даже радостно взбодрившись и дивясь своей резвости, торопко шагали гуськом по тропинке.
— И что, Иван, есть ведь еще порох в нас! — на ходу бросил мне брат. — Только бы сыпняк не схватить — до весны выдержим!
В этих словах я угадывал, что весна, до которой оставалось месяца два с половиной, была для брата той чертой, когда можно будет окончательно решить, что делать и как быть. Ясно было, что мириться с положением, в которое мы были поставлены, нельзя. Константин не развивал эту мысль, но я уже был затронут ею и про себя размышлял, что не только плохие бытовые условия, недоедание нас угнетали, но и труд ведь, не свободно избранный: мы не посланы, а высланы. Административно, то есть насильственно. И в этом вся причина: внутренний, ничем не заглушаемый протест. Терпеть, мириться и ждать конца необъявленного срока наших душевных и физических тягот — значит согласиться и признать, что как раз ты и есть тот, кем тебя именуют. Но такое признать мы не хотели и не могли — оправдывать тяжким трудом несовершенную вину было более чем обидно. И неотвязные мысли о словах из второго и последнего письма Александра к нам в ссылку: "Ликвидация кулачества как класса не есть ликвидация людей и тем более — детей" горько отзывались в сознании. Эти слова призывали как бы к тому, чтобы признать: да, мы — кулацкая семья, и нечего рыпаться. Как людей нас не ликвидируют, нам же, младшим, если верить его словам, вроде бы ничто и не угрожает. Но какая еще более серьезная может быть угроза, если люди умирали от истощения и тифа!
Я и тогда хорошо понимал, что кулак — прежде всего эксплуататор, владелец обширного хозяйства, где хлеб заходит за хлеб, где не знают нужды и не гадают о том, как дотянуть до нового урожая. Здесь же мы видели совсем другое. Подавляющее большинство спецпереселенцев были из крестьян-хлеборобов и никоим образом не подходили на рисованных хищников-эксплуататоров. Их заскорузлые от извечного труда руки, их безропотная покорность судьбе подтверждали совсем другое: постоянную заботу о куске хлеба. Они и в ссылке были готовы на любую работу, лишь бы выжить, свести концы с концами. Помню, как пожилой спецпоселенец в беседе с нашим отцом говорил: