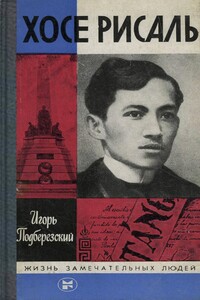Родина и чужбина | страница 123
В 1934-м, 1935-м, да и не только в эти годы, но еще и прежде он подвергался яростным нападкам за якобы проводимую в его творчестве неверную, не соответствующую действительности и задачам дня идеологию. Ярлык "кулацкий подголосок" приклеить было несложно: сын раскулаченного отца. О том же, что вечный труженик-отец был несправедливо и жестоко обижен невеждами, волей случая оказавшимися в положении власть имущих, никто не хотел подумать.
А. И. Кондратович в книге "Александр Твардовский" на основании сохранившихся публикаций смоленских газет пишет: "Нападки такого рода повторялись не раз и не два, но в 1934 году они приобрели уже характер угрожающий. «Негодовали» как раз потому, что поэт показывает колебания крестьянина, — мол, в то время таких колебаний совсем не было: крестьянин рвался в колхоз. Обвиняли в том, что он идеализирует мечту крестьянина о своем единоличном хозяйстве и тем самым подпевает кулацкой идеологии: так и писали о Твардовском как о "кулацком подголоске".
Таким образом, моя смоленская встреча с братом совпала с тем периодом, когда он носил в душе боль тяжких обвинений от людей, с которыми был рядом, то есть от смоленских же литераторов — В. Горбатенкова, И. Каца, Н. Рыленкова, Н. Павлова, пробивавших себе дорогу в литературу путем непозволительного очернения тех, кто своим талантом мог их заслонить.
Надо думать, что Александр догадывался, что мне, как и всем остальным родным, ничего не известно об этих терроризирующих его нападках, и, видимо, не хотел, чтобы это стало известно матери: о себе он ничего не сказал.
И потом, лишь единственный раз, мне довелось слышать неодобрительный отзыв Александра Трифоновича о Н. И. Рыленкове. Это было в 1956 году 18 сентября. Вместе с А. Г. Дементьевым Александр Трифонович приехал в Смоленск, чтобы навестить мать. Было застолье, и, поскольку Рыленков жил в том же доме, на той же лестничной площадке, мать спросила Александра, пригласить ли Николая Ивановича.
— Рыленкова? — переспросил он. — Нет! Не надо! Не хорошо помнить, но что поделаешь? Для него я был "кулацкий подголосок".
Встречей с братом летом 1934 года я остался недоволен. Мне казалось, что мой приезд и сама встреча пробудили в нем, не побоюсь сказать, чувства некоей вины или даже угрызения совести. Забыть о письме к нам в ссылку, о встрече с отцом в том же Смоленске в 1931 году у подъезда Дома Советов он не мог. Так я думал, и мне было жаль брата. Нравилось мне или нет, но я не мог не учитывать того факта, что был он искренним комсомольцем двадцатых годов. Мысли во мне роились, может быть, путано и сбивчиво, но, в теперешнем моем осмыслении, мне представлялось, что революционное насилие, коснувшееся родителей, братьев и сестер, пусть ошибочно-несправедливое, как бы явилось тем пробным камнем для Александра, когда нужно было показать, чего ты действительно стоишь как комсомолец. Может, даже не кому-то показать, а прежде всего показать своему внутреннему «Я» — самому себе. Видимо, мог он рассуждать примерно так: "Каждый кулак — чей-то отец, а его дети — чьи-то братья и сестры… Чем же твои родные лучше других? Наберись мужества, скрепи сердце, не давай воли абстрактному гуманизму и тому подобным внеклассовым чувствам" (цитата из письма одного литератора ко мне). Такова могла быть логика. Если уж идешь со своей душой за коллективизацию, а значит, и за ликвидацию кулачества как класса, то просить исключения для своего отца не было моральных прав.