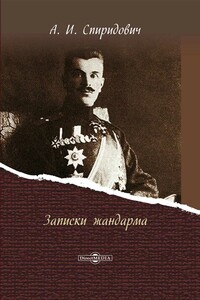Родина и чужбина | страница 111
Свою мечту и задачу, ради которой приехал, он не забывал и обдумывал, как лучше ее осуществить. Особая сложность была в том, что с ним вместе их было пятеро — целая группа, незаметно вывести которую из поселка невозможно. Решено было по одиночке или по двое перебираться в определенное место в тайгу, а там, надев самое необходимое, ждать отца. Он должен был уйти из поселка последним.
До самого конца рабочего дня отец был в кузнице, работал, как обычно, оставить работу было нельзя. После работы он домовито пошел в опустевшую хату с охапкой дров. Посидел, покурил и, пожелав сам себе удачи, налегке, с одним лишь топориком, скрылся в тайге.
Рассказывал отец, что очень беспокоился: "Окажутся ли все в условном месте?" "А вдруг «горемыки» мои разбредутся, не окажутся, где нужно? Где их искать?" Но обошлось: отец нашел их.
Младшая наша сестра, Мария, рассказывала, что шли месяца полтора лесами. Часто отец оставлял их, а сам уходил искать какое-либо селение, чтобы добыть картошки. "Так было страшно! — вспоминала Мария. — Бывали случаи, когда ждать приходилось часов по десять, сидя в диком лесу, с напряжением ловя каждый шорох и боясь, что с ним что-то может случиться, и тогда всем нам беда и конец.
Да, можно поверить: нелегко им пришлось.
Глубокой осенью они дошли до села Лая, что в двадцати километрах от Нижнего Тагила. Здесь остановились: почувствовали, что дальше идти не могут. В местном совхозе отец нашел работу, квартиру, привели они себя в мало-мальски человеческий вид: отогрелись, отпарили и отскоблили многослойную грязь бродячей жизни. К зиме перебрались в Нижний Тагил, в тот самый район старого демидовского завода, где отец и проработал несколько месяцев в кузнечном цеху.
Но работа в заводской кузнице, хотя и нравилась ему, все же была для него уже тяжела, не по силам: шел ему пятьдесят седьмой год, да и кузнец он был не заводской, а именно сельский. По этой причине он и переехал с семьей на реку Вятку в село Русский Турек Уржумского района. Этот переезд тоже не был прост и легок. Собрали деньжонок на проездной билет до станции Вятские Поляны, а на оплату подводы от Вятских Полян до Русского Турека у них почти ничего не оставалось. Сто двадцать километров шли они пешком в сторону Уржума по зимней дороге. Но, как ни было тяжело, дошли до того «таинственного» села, где, по рассказам, был дешевый хлеб и где нужен был кузнец.
Был тогда в Русском Туреке большой и богатый колхоз "Красный пахарь". Руководил им умный и хозяйственный председатель Меринов. С великим удовольствием он принял нашего отца на работу по договору в колхозную кузницу. Приглашал и в члены колхоза, но отец воздержался. Голода, особых недостатков в тех местах совершенно не знали. Богатейшее село стояло на правом берегу судоходной Вятки. Места эти были тогда необычайной красоты: простор широчайший, много зелени: пойменных лугов, цветов, лесов, и сам воздух ничем не замутнен — свежесть и прозрачность удивительные. И народ там какой-то особенный: добродушный, гостеприимный и, чем еще отличается, — поголовно песенный. Да как поют! Диво дивное!