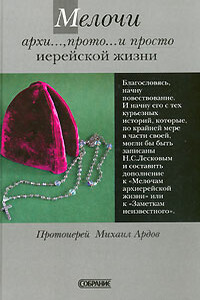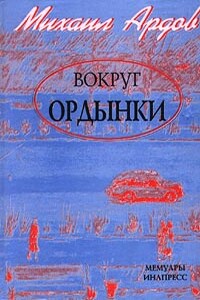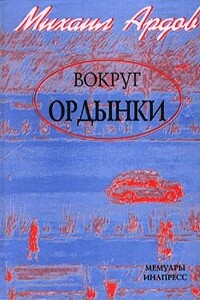Прописные истины | страница 7
И вот уже в начале нашего века некоторые представители богемы всерьез вознамерились приспособить Христианство к собственным своим вкусам и потребностям, исподволь заменить Православие иным учением, соединить то, что самой Библией объявляется несочетаемым, — любовь к Богу и любовь к миру.
Любимый ученик Господа Иисуса Евангелист Иоанн Богослов увещевает нас:
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего».
(I Ин.2, 15–17)
Что как не гордость житейская звучит в словах одного из тогдашних интеллигентов — Д. В. Философова?
«Церковь требует отречения от любви к жизни и к людям, от любви к искусству, к знанию… а мы не хотим отрекаться от того, что хотим освятить».
И как это ни прискорбно, подобные мысли и стремления были сочувственно встречены некоторой частью духовенства.
Тут я решаюсь прибегнуть к свидетельству человека, которого уж никак не обвинишь ни в обскурантизме, ни даже в церковности, да и вообще он был начисто лишен каких бы то ни было определенных убеждений. Зато свидетель этот известен своей искренностью и предельной откровенностью — Василий Васильевич Розанов.
В ноябре 1907 года на заседании Санкт-Петербургского религиозно-философского общества он прочел доклад под названием: «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира». Розанов живо и достоверно передает самую атмосферу, царившую на тогдашних встречах интеллигенции с духовенством:
«В нынешних „Религиозно-философских собраниях“ поднимаются те же темы, которые волновали собою собрания 1902–1903 гг. Эти вопросы — о духе и плоти, „христианской общине“ и общественности в широком смысле; об отношении Церкви и искусства; брака и девства; Евангелия и язычества и проч. В блестящем докладе „Гоголь и отец Матвей“ Д. С. Мережковский страстно поставил вопрос об отношении христианства к искусству, в частности об отношении, например, Православия к характеру гоголевского творчества. В противоположность отцу Матвею, известному духовнику Гоголя, он думает, что можно слушать и проповеди отца Матвея, и зачитываться „Ревизором“ и „Мертвыми душами“, от души смеясь тамошним персонажам. Пафос Мережковского по крайней мере заключался в идее совместимости Евангелия со всем, что так любил человек в своей многотысячелетней культуре. Ему охотно поддакивали батюшки, даже архиерей и все светские богословы, согласно кивавшие, что, „конечно Евангелие согласимо со всем высоким и благородным; что оно культурно“: а посему культура и Церковь, иерархи и писатели могут „гармонично“ сидеть за одним столом, вести приятные разговоры и пить один и тот же вкусный чай. Все было чрезвычайно приятно и в высшей степени успокоительно. <…>