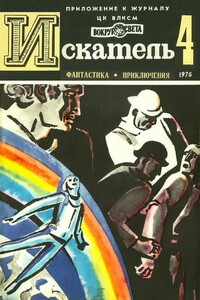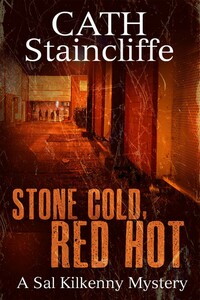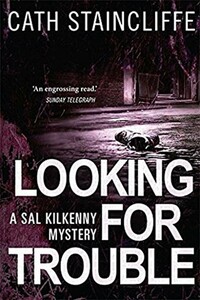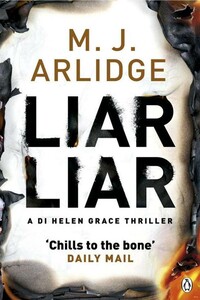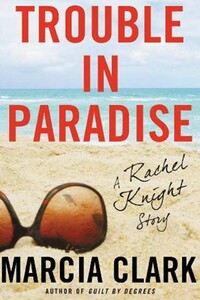Двадцатая рапсодия Листа | страница 70
– Не стреляли, – неохотно подтвердил Никифоров. – Ваша правда, господин Ульянов. Но это ведь еще ничего не значит. В убийстве Кузьмы он, скорее всего, не виновен, а насчет остального – тут бабушка надвое сказала. Ничего, пущай еще под замком посидит. Темнит он что-то, воля ваша.
– А все-таки, что он вам рассказал? – не отставал Владимир. – Ну хоть о чем-то ведь вы его расспрашивали? Видел он что-нибудь подозрительное? Ну, я имею в виду, когда вещи к вам во двор подбрасывал?
Никифоров не ответил, с силой хлестнул лошадей, которые, на мой взгляд, и так бежали резво.
Мы уже миновали болото, проехали просекой и спустя время, показавшееся мне очень долгим, наконец покинули лес. Только у околицы Никифоров, который не только не пожелал отвечать на вопросы Владимира, но и, казалось, вообще забыл о них, произнес мрачным тоном:
– Ладно, господин Ульянов, скажу. Видел Паклин что-то. Видел то же, что и Кузьма покойный. Черта он видел. Мохнатого, очень страшного черта. Вот так-то. Даже когда рассказывал, только что зубами не стучал от страха. Да-с.
У меня, признаюсь, волосы под картузом зашевелились. Не то что я чересчур уж суеверный человек, разумеется, нет. Но в ту минуту я и впрямь готов был поверить, что бродит где-то рядом нечистая сила. Чтобы в нашем мирном Кокушкино, да такие страсти… Невольно поверишь в чертей и прочее. Право, поверишь. Не в мохнатое чудище с рогами, но в какую-то злокозненную силу, вдруг объявившуюся тут и сеющую смерть.
Владимир, словно услышав мои мысли, оглянулся на меня, невесело усмехнулся и сказал:
– И зачем же черту охотничье ружье? Черт ведь вроде бы за душами охотится. Ни к чему ему ружье. Да и призраку оно ни к чему. Нет, Егор Тимофеевич, нет, Николай Афанасьевич, никакого мохнатого черта, никакой нечистой силы тут нет. А есть очень хитрый и очень жестокий преступник.
Егор Тимофеевич в который раз за последние часы тяжело вздохнул.
– Да, дела… А тут еще шатун объявился. И без него забот… – Он не договорил и махнул рукой.
Только дома, уже раздевшись и рухнув в свое любимое кресло после этого долгого и трудного дня, я понял, сколь жестоко проголодался. Посетившее меня утром предчувствие, что обед мой закатится за горизонт, как вечернее солнышко, не обмануло. Может быть, и тревога, охватившая меня, вызывалась более пустым желудком, нежели чем приступом суеверности. После того фриштыка из куска пирога и тарелки каши у меня за весь день маковой росинки во рту не было.