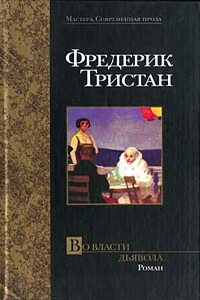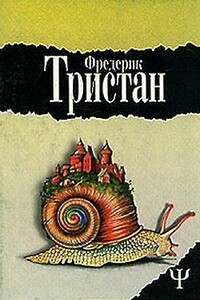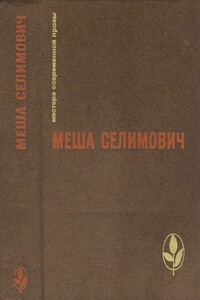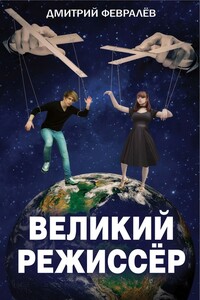Мастерская несбывшихся грез | страница 44
Где-то в те времена – точно не припомню, в каком году – я познакомился с антикваром и коллекционером Илайесом Эшмоли. Он слышал о моих работах от Джонса. Я с удивлением узнал, что одна из копий рукописи, полученной мной в Касселе из рук Газельмайера, была переведена на английский язык и посвящалась именно этому Эшмоли, который, как мне показалось, весьма увлекался учением Креста и Розы. Именно тогда я узнал, кто был автором текста – некий Валентин Андреа. Что касается Газельмайера, то его отправили на каторгу по доносу иезуитов. И когда я начал расспрашивать, что же на самом деле: представляет это братство, Эшмоли мне ответил, что это больше идея, чем собрание людей, и что не следует принимать слишком всерьез то, что было, конечно же, только символом. Взамен Эшмоли предложил мне вступить в общество вольных каменщиков, ведь, работая в области театральной машинерии, я в определенной степени был связан с архитектурой.
Вот так я и был принят в братство масонов города Йорка, где, к своему удивлению, встретил Айниго Джонса, с которым расстался три дня тому назад в нашей мастерской! В связи с этим событием состоялась небольшая церемония, где я должен был поклясться на Библии, что буду хранить тайну. Аристократы сидели здесь рядом с мастерами и даже с простыми ремесленниками. В этой среде я нашел очень человечные и братские отношения. Несколько лиц совершили некий ритуал, заимствованный, как мне показалось, из истории Соломонового храма, после чего все уселись за стол, и состоялся пир, во время которого пастор с длинными усами спел довольно резким голосом несколько гимнов.
Нам много приходилось работать с Беном Джонсоном, иногда с Семюэлом Дениэлом или Френсисом Бомоном. Эти авторы обожали театральные действа, где изобиловали всяческие машины. Самыми блестящими нашими постановками были «Оберон, князь фей», «Кевершемская маска» и «Возвращение Золотого века»; но назвать их все я затрудняюсь. Королевский двор был очень лаком на эти спектакли, где мы спускали ангелов с потолка на облаках из ваты, в то время как переодетые в чертей негры размахивали факелами. Мы использовали все то, что предлагала нам литература по эмблематике, в частности, «Иконология» Рипы и девизы Альчати. Разве вселенная не была иероглифом, который театр имел за обязанность показывать сквозь пелену художественного вымысла? А разве сама эта пелена не напоминала вселенную в ее отношении к Богу? Шекспир разбудил «чудесную манию» изобретательности. Уловки искусства происходили из самой глубокой философии.