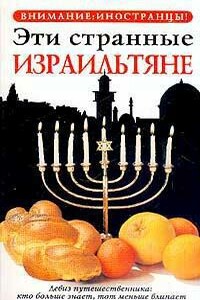Зима на разломе (Ближний Восток, 1993-94) | страница 4
Ненавижу московскую зиму и всегда мечтал удрать от нее куда-нибудь в места с пригодным для жизни климатом. Сейчас, похоже, мне это удавалось, но настроение было отвратительное. На севере остались дом, к которому я едва успел привыкнуть после целого года путешествий, друзья, любимая девушка. На юге меня, видимо, не ждало ничего, кроме безнадежного одиночества и изнурительной работы в чужой стране.
Перед отъездом я зашел посоветоваться к человеку, который только что вернулся из Израиля в Россию.
- Значит, так, - сказал он. - О бабах забудь. Для местных ты вообще не человек, а наши там сразу бросают мужей и ищут любого израильтянина, хоть самого завалящего. На приличную работу не надейся. Страна забита иммигрантами отсюда, и все мучаются без работы. Единственное, на что ты можешь рассчитывать - вкалывать с арабами на стройке. Десять часов в день без выходных, два доллара в час. Если надсмотрщик увидит, что ты остановился передохнуть - уволит. Если не увидит, арабы зарежут. Главное, оставь денег на обратную дорогу. А лучше - не езди вообще в эту сволочную страну. Дыра, гнилая провинция, сборище расистов... - он еще долго рассказывал, какое это ужасное место, чуть ли не хуже Совка.
У меня и на дорогу туда финансов не хватало - пришлось добираться довольно сложным путем. Доехав до Кишинева, я сел на электричку до Унген, последнего приграничного городка, и стал дожидаться поезда Москва-Бухарест. Международные поезда всегда дороже, поэтому их я мог использовать только непосредственно для пересечения границы.
Унгенской таможней заведовала толстая женщина лет сорока с командирским голосом.
- Надолго едешь? - спросила она.
- На полгода.
- Ага! Сколько везешь денег?
- Двести долларов.
- Врешь.
- Двести долларов.
- Обыскать его!
Тщательный подсчет показал, что их не двести, а 198 в долларовых бумажках.
Потрясенная таможенница сразу смягчилась и даже вышла меня проводить к поезду.
- Ты смотри, осторожно там, - наставляла она. - А то и эти своруют. Румыны такой народ, такой народ... Мы бы тебе помогли, но сейчас самим тяжело. Не сезон, челноков мало. Храни тебя господь, сынок...
В кромешном мраке погруженного в сон вагона я сразу забился в уголок и проснулся уже в Бухаресте. Город еще дремал в утреннем тумане, пропитанном прохладным дождем. По пустынным улицам бродили тени советских челноков, дожидавшихся экспресса на Софию. На стенах болтались листовки времен революции, а в одном дворе еще висел расстрелянный из рогаток портрет Чаушеску.