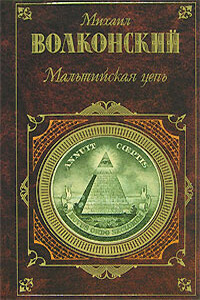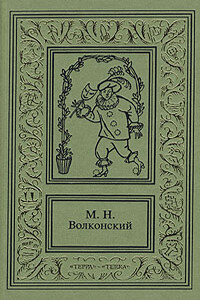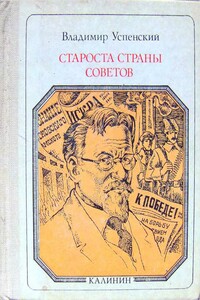Гамлет XVIII века | страница 20
По счастью, в прошлом году к коронации ему был сшит новый сенатский мундир, ненадетый им еще до сих пор. Лидия Алексеевна в прошлом году готовилась к празднествам коронации, шила себе наряды, а сыну заказала мундир, но никуда приглашены они не были и никуда не попали, и это значительно поспособствовало окончательному присоединению обиженной Радович к старой екатерининской партии. Зато теперь Денису Ивановичу было в чем поехать на бал, и он сейчас же велел своему казачку Ваське, чтобы тот достал ему новый мундир.
Мундир был уложен в сундуке, в кладовой, ключи от которой хранились у заправлявшей всем домом экономки Василисы, до некоторой степени являвшейся всемогущим министром при Лидии Алексеевне. Она, привыкшая до сих пор получать приказания только от барыни, очень удивилась самостоятельному распоряжению Дениса Ивановича и велела Ваське спросить у него, зачем ему понадобился новый мундир?
Не было еще случая, чтобы Денис Иванович рассердился на кого-нибудь из слуг или возвысил голос, но тут, когда Васька передал ему слова Василисы, он вдруг крикнул:
– Пошел и вели, чтобы мне сию минуту принесли мундир!
Васька, никогда не слыхавший ничего подобного, оторопел.
– Ну, что ж ты стоишь? Пошел! – еще громче заявил Денис Иванович.
Известие, принесенное вниз Васькой, что молодой барин сердится, требуя себе мундир, произвело впечатление во всем доме, как нечто небывалое и совсем необычайное. Василиса отправилась с экстренным докладом к Лидии Алексеевне. Чувствовалось, все поняли, что молодой барин из тихого становится буйным и что он затеял с новым мундиром какую-то, очевидно совсем безумную, выходку.
Совершенно так же посмотрела на дело и сама Лидия Алексеевна и приказала позвать к себе Дениса Ивановича. Васька вторично явился к нему с пустыми руками.
– Вас барыня спрашивают! – робко доложил он Денису Ивановичу, держась за дверь и боясь ступить лишний шаг, чтобы лучше обеспечить себе возможность, в случае чего, скорейшего бегства.
Искренний испуг, выражавшийся в лице Васьки, образумил Дениса Ивановича, и он тихо сказал ему:
– Хорошо, я приду сейчас.
Денис Иванович по привычке посмотрелся, перед тем как идти вниз, в пыльное зеркало, все ли у него в порядке в одежде, взял пригласительный билет и пошел к Лидии Алексеевне.
Она сидела у себя в спальне, у открытого окна в сад, и раскидывала «гран-пасьянс».
Эта огромная материнская спальня, с ее серыми гладкими стенами, на которых без симметрии висели три почерневшие масляные картины и пожелтевшие гравюры (одна изображала притчу о блудном сыне), с ее высокой, покрытой красным штофным одеялом постелью, где лежала груда подушек; спальня, с огромным, мрачным киотом, полным старинными образами в потускневших ризах, с туалетом и бюро, похожими на средневековые постройки, и с клеткой злющего попугая, пронзительно кричавшего временами, – всегда, с самого детства, производила на Дениса Ивановича удручающее, гнетущее впечатление. Ребенком он, входя сюда, испытывал не только привычный, отчужденный страх к самой матери, – он боялся ее одинаково всюду, – но и к самим вещам, бывшим тут. Ему казалось, что в сумерки туалет, бюро и киот ведут всегда между собой сердитые разговоры, смотрят и слушают, и что мать в каком-то заговоре с ними, руководит ими и единственно их любит на свете. И до сих пор он не мог отделаться, входя в спальню Лидии Алексеевны, от чувства неловкости и стеснения, обычного ему с ребяческих лет.