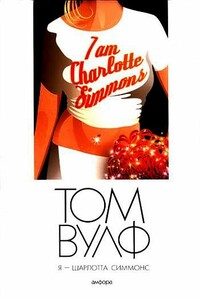Триптих | страница 22
Он петь любил, регент был хороший… Ладно-хорошо… А в пятьдесят втором году пришел к нам из заключения Александр Павлович. Был он раньше священник обновленец. Служил за Пошехоньем, и там сгорел у них сельсовет, тут его обвинили, посадили. А жена у него и дочка Анюта пропали — так и не знает куда. А отец Асинкрит был у нас очень жалостливый, принял Александра Павловича, так он с ним и стал жить, хоть и тесновато было.
Священником он уж больше не хотел быть. Ему предлагали покаяться из обновленцев, но он не стал. А устав хорошо знал, псаломщик был превосходный, И ко мне часто приходил, все об дочке грустил, об Анюте.
Но он, конечное дело, тронутый был уже. Спал только на полу, на мешке с соломой.
Раз вхожу к ним, гляжу, газетой накрылся, а сам святцы читает и плачет… Ладно-хорошо… А тут телеграмма мне и отцу Асинкриту, вызывают меня в епархию. Это, уж, наверное, год пятьдесят шестой был.
А как ехать? Мимо нас тогда лен возили в Карамышево, там завод, принимали. С ними я и доехала. A там на Кукобой шла пешком, тут деревнями недалеко. А было это в декабре — перед Варварой и перед Николой. А от Кукобоя уже на поезде… Приезжаю в епархию, отец Николай Понтийский, секретарь архиерейский, хороший. И тут нас, псаломщиков, у него шесть человек.
Феодора, Люба, Параскева какая-то была, не знаю, откуда она, два мужчины — у одного рука плохая, а другой из сторожей. «Я, — говорит, — уж шесть годов служу сторожем, так уж маленько маракую». А Феодора всех нас насмешила. «Я, — говорит, — старостой работаю и псаломщиком. Две должности несу, да и ответственные»… Выходит к нам сам епископ Исайя, всех благословил, все тут подошли под благословение. Усадили нас и стали спрашивать, кто что знает. Все молчат, как воды в рот набрали. Сначала Феодору спросили. «Я, — говорит, — две ответственные должности несу — старостой и псаломщиком». — «Ну так спой чегонибудь». — «Пою, пою…» — «Ну, спой». Спела она «Достойно»… Ладно-хорошо. Любу спросили — она наша монашина — она говорит «Устав я хорошо знаю, а петь я не пою. Хотя по крайности все спою». (Конечно, гласов она не знала.) — «А „Хвалите имя Господне“ умеешь петь?» Она как захрипит: «Хва-а-ли-те и-им-я Го-от-по-дне…» — «Ну, ладно, — говорят, — хватит, хватит.
Можешь, можешь», — оставили ее. А дядьки ни который ничего не спели. А Параскева эта чегото пела. А последнюю меня спрашивали: «Шестой глас умеешь петь?» Я запела. Потом восьмой спросили — «Господь воззвах…» — «Третий глас?» Я опять: «Господь воз-звах…» И так все вразбивку, не подряд спрашивали. Потом прокимны спросили. Первого и пятого гласа, потом четвертого, и я все спела. Понтийский сказал, отец Николай: «Эта вообще может псаломщиком работать». Владыка всех нас вместе благословил эдак и ушел. Потом выходит, выносит шаль шерстяную, тонкую, завернута в бумаге. И подает мне. До сих пор у меня цела. А Любе благодарность, что устав знает. Тогда ведь псаломщиков вообще не было. А у нас на Водоге целых два оказалось — Александр Павлович и я. А тут мы узнали, что еще есть место в Дмитриевском, за Пошехоньем. Александр Павлович туда идти боялся. «Опять, — говорит, — они меня заберут». А до войны он служил там, в тех местах. Думала, думала я и решила ему место уступить. А тут слег у нас отец Асинкрит. Еще за неделю до болезни говорит: «Я хочу приобщиться. Буду служить». И служил обедню. Причастился, выходит ко мне: «Я хочу, чтобы ты сейчас спела „О тебе радуется, Благодатная…“ И я с вами буду петь». — «О тебе радуется…» — поет голосок тоненький, а слезы так и капают. А через неделю он слег. Три месяца не вставал, как щепочка исхудал. А тут прихожу, он лежит, словно поет что-то. Я подхожу: