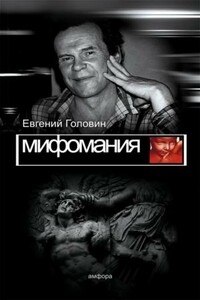Приближение к Снежной Королеве | страница 51
Есть любопытный анекдот про Оскара Уайльда. Под его окнами сидел нищий в отвратительных лохмотьях. Как поступил Уайльд? Он не подал ему милостыню, не купил ему новый костюм. Он велел взять его лохмотья и сшить точно такие же, только из очень хороших материалов: атласа, бархата, шелка и т. п. Нищего переодели. Уайльд остался доволен… Сказать, что это хороший поступок — наверное, нельзя, но и плохим этот поступок не назовешь. Это поступок очень нейтральный. Этика здесь безусловно подчинена эстетике.
Или, например, сладострастие. Это ужас как неэстетично. Обычное сладострастие: женщина с мужчиной; необычное: женщина с женщиной, двое мужчин и т. д. — все это до крайности неинтересно и неэстетично. Маньерист предпочитает такие изысканные пороки, как статуе-ложество или дриадомания. Что касается статуеложества, то при небольшом полете фантазии можно представить, что это такое. Дриадомания — более тонкий порок. Это любовь к деревьям в девственном лесу, где вы с ними сочетаетесь очень любовно и очень страстно. При этом вы ищете нимфу, которая в данном дереве живет. Согласитесь, если это и порок, то он весьма эстетичен.
Термин «маньеризм» появился в двадцатые годы. Впервые это слово встречается в искусствоведческом анализе живописи Эль Греко и Тинторетто. Естественно, как и большинство «измов», которыми мы пользуемся, термин этот ввели немцы. Пальма первенства здесь принадлежит Роберту Курциусу, но широкой популярностью это слово стало пользоваться после выхода книг немецкого искусствоведа Густава Рене Хокке «Мир как лабиринт» и «Маньеризм в литературе». То, что я рассказываю о маньеризме, несколько отличается от концепции Хокке. Для него маньеризм — это отклонение от нормы. Если классика — стандарт, то маньеризм — это то, что этот стандарт сознательно нарушает. Вот, например, как рассуждает Хокке о маньеризме: «Когда объективный мир не предлагает ничего истинно реального и конкретно ценного, начинает превалировать режим субъективных отношений. Когда распадаются структуры, начинается «транзитность» — замена одной вещи на другую, торжество метафоры». Для Густава Рене Хокке метафора — главная риторическая фигура маньеризма.
Как и для большинства немецких искусствоведов первой половины ХХ века, для Хокке эта так называемая «базовая реальность» не вызывает никаких сомнений. Отсюда обычная для немцев двоичная система художественного измерения: аполлонизм — дионисизм, атти-цизм — азионизм. Аполлонизм и дионисизм еще можно понять, но что такое аттицизм и азионизм? Аттицизмом Хокке называет культуру классической Греции. И в Греции, и в Риме, и в Средние века принцип базовой реальности был очень силен. Люди верили в то, что называется equilibirum prodestinata. Это выражение можно перевести как «предустановленная пропорциональность». Через всю нашу жизнь, — причем, неважно, индивидуальная это жизнь или социальная, — идет очень точная ось, которой мы должны придерживаться. И если мы решаемся от нее удаляться, то необходимо точно знать, куда и как, потому что можно удалиться так далеко, что к этой базовой или основной реальности вернуться будет уже невозможно.