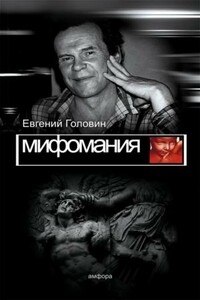Приближение к Снежной Королеве | страница 39
Я хочу процитировать еще одного поэта, Домазо Алонсо, стихотворение называется «Женщины». Первая строфа звучит примерно так:
Мне кажется, что хотя стихотворение называется просто «Женщины», речь здесь идет несколько о другом женском начале. О нем мы поговорим с вами в следующий раз.
Диана
Эта лекция посвящена женской субстанции в алхимии и тому, что с ней связано. Прежде, чем начать разговор о Диане, нам нужно подумать о том, что такое языческие боги. Мы, современные люди, очень плохо понимаем античные цивилизации вообще и греческую мифологию в частности. Нам крайне трудно составить адекватное представление о том, что такое политеизм. Многовековое господство монотеизма оставило глубокий след в нашем восприятии. Например, когда речь идет о двенадцати олимпийских богах, мы автоматически считаем каких-то богов главными, а каких-то второстепенными. А ведь в античной мифологии ничего подобного и в помине нет! Да, Зевса называют отцом богов, то есть, в известной степени, считают главным богом. Но только «в известной степени». Например, в человеческом организме, нельзя сказать, что один орган главнее другого. Совокупность органов составляет единое целое — один организм. Такое же чувство живого организма необходимо и для составления более-менее адекватного представления об античной религии и мифологии. Даже с базовым понятием «мифология» сегодня не все в порядке. Миф воспринимается как фольклор. Не более того. С другой стороны, ужасно умные психологи нам доказывают, что в мифах отображены глубинные архетипы бессознательного или что-то в этом роде. Это, конечно, замечательно, только нам они этим все равно ничего толком не объясняют. Скорее наоборот — делают мифологию еще более непонятной.
Чтобы хоть немного представить себе, что такое политеизм, необходимо усвоить следующее: в цивилизациях Египта, Греции понятие «смерть» вообще отсутствовало. Не было смерти как провала в ничто, полного, безвозвратного ухода тела и души, как это понимают люди, воспитанные в иудео-христианской традиции. А значит, и сопровождающего смерть пессимизма в античной традиции не существовало. По существу дела, бесконечная чреда авторов, упражнявшихся на тему античности, не имела о ней даже самого приблизительного представления. Лишь при чтении Бахофена, Буркхарта или, скажем, Ницше интуиция нам подсказывает, что эти писатели, кое-что понимали в античности.