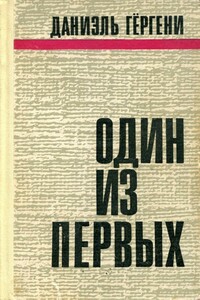Улицы гнева | страница 3
— Табак махорки не горше. — Не зная, как держаться с собеседником, Федор Сазонович улыбнулся и довольно-таки растерянно оглянулся по сторонам. Речи были странные, хотя Тищенко — теперь Байдара — никогда не вызывал симпатии у Федора. Его появление на улице вслед за передовым отрядом немецких войск и явно злопыхательская болтовня настораживали. Смущали, однако, слова о душе, которая-де «плачет». С чего бы ей «плакать», когда по всем данным этот Байдара — Тищенко давно не в ладах был с той самой Соввластью, которая заставила его подчищать нечто и в документах, и в биографии. Да и сама повадка соседа в этот трагический час нисколько не слезливой была, а, напротив, радостно возбужденной: как же, как же, новый порядок под Гитлером, каков он будет? — Сапожничать попробую, старого не позабыл. Может, артель подберу: я, ты да третий Давыдка. Как новая власть дозволит.
— Дале не сигаешь? — спросил Байдара.
— Куда мне? Замаранный был партбилетом...
— А он-то где?
— В рамочке под стеклом. Для Музея революции.
— Шутник, сосед.
— Видать, шутки наши недолгие. Сила идет. Куда же ты?
— На птичий базар! — весело откликнулся Байдара, как-то несуразно, по-птичьи взмахнув руками. — Пойду. Бог даст, встретимся еще...
2
Завоеватели рвались на восток, торопливо, давясь и обжираясь, заглатывали с ходу города, села, нивы, дороги, станции, снова города.
Гранитный памятник Ленину на центральной площади свалили: на пустом пьедестале теперь фотографировались немецкие и итальянские унтеры. Горела городская библиотека, и никто ее не гасил. Начались аресты; какого-то крупного партийца схватили.
Об этом со слов соседей Федору Сазоновичу рассказывала Антонина. Бегала к школе «узнавать» и востроносая Клава: «Ой, папа, сколько немцев в городе, если бы ты знал!.. На губных гармошках пиликают, конфетами угощают. Скоро, говорят, школу откроют. Немка наша, Эльза, с ихними офицерами запросто, сама видела».
Федор Сазонович ласково гладил дочку по голове, отвечал ей невпопад и то и дело лазил по скрипучей лестнице на чердак, словно примерялся к убежищу.
Под вечер четвертого, а может, и пятого дня новой власти он натянул свой брезентовый плащ и взял кепку.
Антонина смотрела выжидающе.
— Пойду, — сказал Федор Сазонович, виновато косясь на жену. — Пора мне, Тоня, — по привычке он вытер суконкой сапоги и, как всегда, положил ее на место, у порога.
Сеялся дождь. Ноги скользили по размокшей глине. Федор Сазонович миновал водоразборную колонку, к которой частенько хаживал с ведрами, жалея Антонину, и, свернув налево, зашагал вдоль белесых хатенок нелюдной, притихшей улочкой.