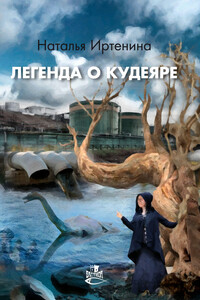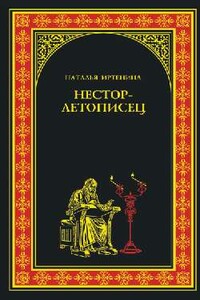«Меж зыбью и звездою» («Две беспредельности» Ф.И. Тютчева) | страница 24
Облегчить невыносимое положение страдающего человека не может никто и ничто — это Федор Иванович понял, проведя ночь у гроба умершей мучительной смертью его первой жены. За несколько часов он поседел совершенно, но так и не нашел ответа на вопрос, есть ли мера «долготерпенью» и для чего человеку посылаются (Роком? Судьбой? Или ничтожным случаем?) страдания. В душе его поднимается бунт — против столь жестоко устроенного мироздания и «неотразимого Рока». Но бунт его принимает своеобразные формы, причем направлений этого бунта несколько (как минимум два). Во-первых, это с новой силой вспыхнувшая любовь к Эрнестине Дернберг, с которой Тютчев, щадя чувства жены, расстался незадолго до смерти Элеоноры. Сила любовной страсти для него единственное, что может примирить его с необходимостью человеческих страданий. Любовь — это вызов, любовь — это «поединок роковой» не только между двумя любящими сердцами, но и между человеком и его судьбой, между ним и безразличием небес. Свою страсть Тютчев противопоставляет бесстрастию миропорядка.
Во-вторых, бунт его вылился в уход в себя, в свою тоску, в окончательное отделение себя и своего «Я» от всемирной жизни. Если миру нет никакого дела до неповторимости личности, то и человек в ответ должен возвести баррикады между собой и миром, отрезать все соединяющие их пути. Тютчев отрицает существование любых точек соприкосновения своего «Я» и внешнего мира: «Боже мой, боже мой, да что общего между стихами, прозой, литературой, целым внешним миром, и тем… странным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит».