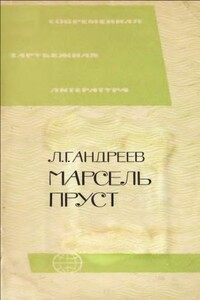Феномен Артюра Рембо | страница 18
Больше как будто определенности в знаменитом сонете «Гласные». Больше просто потому, что стихотворение написано категорично, доктринально, оно предлагает новое видение, новый принцип формирования образа, исходящий из соответствия звука и цвета. Правда, нет никакой возможности ответить на вопрос, что имел в виду сам Рембо, какой смысл вкладывал в свого систему соответствий, какие задачи предполагал выполнить. Никакого авторского комментария сонет не получил, что бросает тень сомнения на него как на некое откровение. Впрочем, Рембо вообще не любил теоретизировать.
Поэтому малоубедительной оказывается та необъятная литература ученых интерпретаций сонета, которая возникла за сто лет его существования. В цепи бесчисленных предположений может занять свое место — и не последнее — самое простое: Рембо пошутил (так считал Верлен). Однако поэт не властен над судьбой своих созданий, и если даже «Гласные» — шутка гения, то значение ее серьезно.
Значение «Гласных» — хотел того или нет сам поэт — определяется в свете программы «ясновидения», в свете эволюции Рембо, логики его движения. Ясновидение — поэтическая программа, она предполагала «новые идеи и формы». В более развернутом ее варианте (в письме Полю Демени, молодому поэту, от 15 мая) сказано следующее: «Поэт… достигает неизвестного, и если даже, обезумевший, он кончит тем что утратит понимание своих видений, — он их видел!» Это ли не программа: видеть, не понимая, утратив смысл, обезумев, достигнув неизвестного?!
С этой точки зрения можно — и желательно — прочитать «Гласные».[1] Здесь важен осуществленный сонетом принцип уподобления гласного звука цвету, а что имел в виду Рембо, что вызывало само уподобление — не столь важно, в конце концов. Объективно в свете задач «ясновидения» такое уподобление поистине открывает путь к некоему «неизвестному». Во-первых, гласный звук перестает быть составной частью слова, речи, то есть перестает выполнять функцию поэтического языка, которая и состоит прежде всего в передаче смысла, в значимой коммуникации. Во-вторых, изолированный от смыслового контекста звук, будучи уподоблен цвету, становится носителем совершенно иной функции — функции непосредственного внушения, прямого воздействия на чувства, функции «суггестивности». Из области понимания мы переходим в область ощущения — в область импрессионизма и символизма, где «неизвестное» поджидает неминуемо.
«Гласные» предвещают такой переход. Эстетически неопределенное «ясновидение» таким образом несколько определилось. Однако Рембо пока еще не только «видит», но и «понимает», смысл еще не утерян. Строгая форма сонета органична для обдуманной композиции гласных и вызываемых ими ощущений.