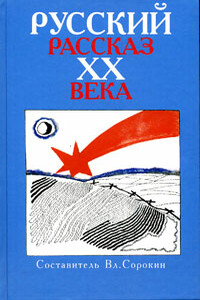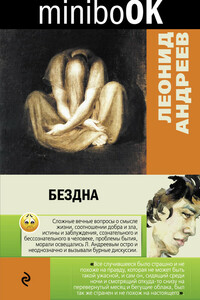О российском интеллигенте | страница 4
«Скучная жизнь» — возмутительнейшая фраза, ярко определяющая всю наивность самомнения, всю нелепость существования заправского интеллигента. Ну, назови ее серой — это дело глаза и ни к чему не обязывает; укажи на кровавые пятна это будет довольно похоже на правду и содержит в себе кое-что обязательное… но скучная! Музыка для него играет, театр для него двери настежь открывает пожалуйте. Книжки для него печатаются, работы разумной, хорошей предлагается ему хоть до отвалу; больные, обездоленные, униженные и оскорбленные ждут его не дождутся, — а он кривляется перед зеркалом и не без красивости хнычет: скучная жизнь, серая жизнь. Возле него, возле самых ушей его раздаются призывные голоса: людей, людей давайте, потому что вот оно, есть хорошее дело, да делать его некому, — а он, обратившись лицом к печальнейшему Ивану Ивановичу, тоскливым голосом нудит:
— И зачем мы! И к чему мы!
А внизу — далеко внизу — пропастью целой отделенная от этой бесталанной своей головушки, живет и могуче дышит народная масса. Для нас — она спит, для нас дыхание ее — лишь признак бессмысленной силы. Но разве мы знаем, о чем грезит она? А узнай — не нашлось бы кой-чего веселого и бодрого в этих грезах, менее туманных, чем это кажется сверху?
«…Скучная жизнь, серая жизнь — серая с пятнами крови на ней» — на сколько воробьиных хвостов хватит соли в этой великолепнейшей фразе!
Впрочем, сейчас настроение повышается. Наступают времена Максима Горького, бодрейшего из бодрых, и вместе с ними замечается неудержимое падение курса на хандру и представителей оной.
В этом есть даже что-то трагическое.
До самого последнего времени человек хандры и утонченно тоскливых чеховских настроений представляет собой всюду personam gratam.[2] Здоровый смех, дерзкий и прямой язык, бодрая жизнерадостность представлялись проявлением вульгарности натуры и вызывали прискорбно-насмешливую улыбку. Чтобы иметь успех где бы то ни было: в печати, в обществе, у знакомых и, наконец, у женщин, необходимо было обладать поэтической внешностью мокрой курицы и таким запасом хандры, не имеющей ни начала, ни конца, чтобы даже наименее чувствительные собаки начинали выть при приближении героя. И он входил, развинченный, бледный, томный, подернутый «дымкой грусти», и говорил, показывая в окно:
— Пролетела галка, за ней другая. И много пролетело галок, и я смотрел на них, и печально светило заходящее солнце, и черные тени падали на землю. О Боже!