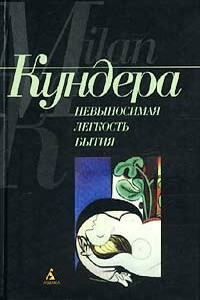Неведение | страница 40
Она садится под пихту, открывает сумку и достает зеркальце. Это круглое маленькое зеркальце, она держит его перед собой, смотрит на себя. Она красива, она очень красива, и она не хочет покидать эту красоту, она не хочет терять ее, она хочет унести ее с собой, ах, она уже устала, так устала, но даже такая усталая, она восхищается своей красотой, ибо это самое дорогое, что есть у нее на свете.
Она смотрит на себя в зеркальце и видит, как дрожат губы. Это движение непроизвольное, тик. Она уже не раз замечала у себя эту реакцию, ощущала ее на своем лице, но видит впервые. И увидав, вдвойне растрогана: растрогана своей красотой и растрогана своими дрожащими губами; растрогана своей красотой и растрогана чувством, которое подтачивает и разрушает эту красоту; растрогана своей красотой, которую оплакивает ее тело. Ее пронизывает огромная жалость к своей красоте, которой скоро не станет, жалость к миру, которого не станет, который уже не существует, который уже недоступен, ибо уже пришел сон, он уводит ее, возносится с ней высоко, очень высоко, в эту бескрайнюю, ослепительную ясность, в это голубое, светозарно-голубое небо.
30
Когда брат сказал ему: «Насколько мне известно, ты там женился», он ответил: «Да», и больше ничего не добавил. Возможно, брату стоило использовать другой оборот и вместо «ты женился» спросить: «Ты женат?» В таком случае Йозеф ответил бы: «Нет, я овдовел». Он не собирался лгать брату, но форма, в которую тот облек свою фразу, позволила ему, не обманывая, умолчать о смерти жены.
В течение последующего разговора брат и невестка избегали всяких намеков на нее. Очевидно, причиной тому было смущение: из соображений безопасности (во избежание вызовов в полицию) они остерегались любых контактов с эмигрировавшим родственником и даже не заметили, как эта вынужденная осмотрительность вскоре превратилась в искреннее равнодушие: они ничего не знали о его жене, ни ее возраста, ни имени, ни профессии, и своим молчанием они стремились утаить это неведение, которое изобличало все убожество их отношений с ним.
Но Йозеф не обиделся; их неведение его устраивало. С тех пор как он похоронил жену, он всегда испытывал неловкость, когда приходилось сообщать кому-нибудь о ее смерти; будто тем самым он предавал ее, обнажая самую что ни есть интимную ее интимность. Ему неизменно казалось, что, умалчивая о ее смерти, он защищает ее.
Ибо умершая жена — жена беззащитная; у нее нет больше власти, у нее нет больше влияния, никто уже не считается с ее желаниями, с ее вкусами; умершая жена не может ничего хотеть, ни добиваться уважения, ни опровергать клевету. Никогда он не испытывал к ней такого скорбного, такого мучительного сострадания, как к ней умершей.