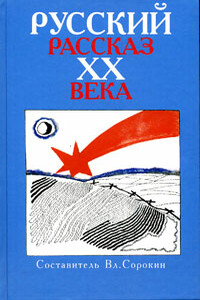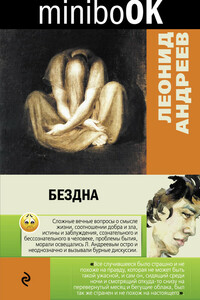Так было | страница 16
— Его нужно выбросить из страны.
— Нет. Народ не позволит. Его нужно убить.
— Но ведь это же будет новый обман.
Багровые пятна прыгают по стене, ползут и мечутся смутные дымчатые тени: словно в неясном сне проходят кровавые дни прошлого и настоящего — и нет им конца. Гул на площади растет; уже чудятся отдельные вскрики.
— Первый раз в жизни я почувствовал сегодня страх.
— И отчаяние. И стыд.
— И отчаяние. Дай мне руку, брат. Какая холодная!..
Здесь, перед лицом неведомой опасности, в минуту великого стыда поклянемся, что не мы предадим несчастную свободу. Мы погибнем, я это почувствовал сегодня, но, погибая, крикнем: «Свобода! Свобода, братья!» Так крикнем, чтобы эесь мир рабов содрогнулся от ужаса. Крепче жми мне руку, брат!
Было тихо, и багровые пятна вспыхивали не стенах, и дымные молчаливые тени двигались куда-то, а за окнами все яростнее грохотала бездна. Словно сорвался страшный ветер — с севера и юга, с запада и востока — и поднял страхом трепещущую массу. Обрывки песен — вой, — и в хаосе звуков огромными, зубчатыми черными линиями выведенное слово:
— Смерть!.. Смерть тирану!
Они стояли, и слушали, и думали о чем-то. Время уходило, а они все стояли, неподвижные среди беснующихся теней огня и дыма, и казалось, что уже тысячи лет стоят они. Тысячи прозрачных лет окружали их великим и грозным молчанием вечности, а тени бесновались, а крики поднимались, и падали, и подходили к окнам, как вздыбившаяся вода. Минутами ясно можно было уловить загадочный и жуткий ритм волны и грохот обрушивающегося прибоя.
— Смерть! Смерть тирану! Шевельнулись.
— Что же, пойдем туда.
— Пойдем. Глупец! Я думал, что сегодняшний день кончит борьбу с тиранией.
— Она только еще начинается. Идем!
Темные коридоры, ступени каменных лестниц, какие-то совсем безмолвные, прохладные залы, глухие, как погреба, — и внезапно блеснул свет, пахнуло жаром, как из раскаленного горна, застучал в уши частый говор, бессвязный и общий, как будто сотни попугаев в клетках наперебой говорили каждый свое. Еще одна раскрытая низенькая дверь — и под ногами огромная яма, пестро унизанная головами, полутемная, чадная; задыхающиеся без воздуха красные язычки света. Где-то говорят, рукоплескания; по-видимому, кончил.
На дне провала, среди двух оплывающих свеч фигурка Двадцатого. Он вытирает лоб платком, низко нагибается над столом и что-то невнятно бубнит — это он читает свою первую защитительную речь. Как ему жарко! Да ну же, Двадцатый! Ведь ты король. Возвысь свой голос, облагородь топор и палача!