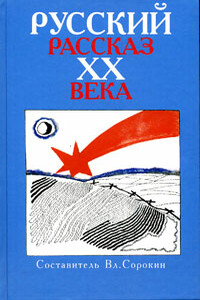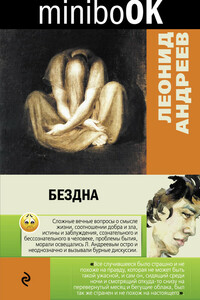Жертва | страница 9
— Вот, Таичка, деньги за пенсионную книжку, — сказала Елена Дмитриевна и с некоторой гордостью подала дочери деньги, — это были единственные минуты за месяц, когда она чувствовала себя полковницей, у которой полон двор послушной и влюбленной челяди. И до сих пор Таисия каждый раз благодарила и даже целовала руку, хотя и сухо, по привычке; но теперь — все так же молча, не меняя выражения каменного лица, взяла и бросила деньги на пол.
— Таисия! — воскликнула мать, но, увидев сумасшедшие глаза Таисии, не посмела продолжать. Не посмела она поднять и деньги, так как Таисия нарочно ходила по бумажкам и по мелочи и даже напевала что-то, будто не замечая ни матери, ни ее денег. Так они и пролежали на полу до минуты, когда обе женщины ложились спать. «Ночью поднимет», — подумала Елена Дмитриевна, но и ночью, когда она вставала, и утром деньги продолжали валяться на полу. Со слезами собрав их, Елена Дмитриевна положила на стол — и со стола снова на пол сбросила их Таисия. И, завиваясь перед маленьким зеркальцем, будто с беззаботностью мурлыча и кося глазами, чтобы увидеть в зеркале свои бледные уши, Таисия захохотала и спросила:
— Это ваши тридцать серебреников?
— Так-таки и не возьмешь, Таичка?
— Ваши тридцать серебреников? Ах, пожалуйста, пусть полежат на полу ваши тридцать серебреников.
— Таисия!..
Но опять встретила сумасшедшие глаза Таисии и не посмела продолжать. Так Таисия и не взяла денег, так и уехала в город, и больно было подумать, как она теперь будет вертеться со своими грошами; и еще ничто в жизни так не жгло рук Елены Дмитриевны, как эти деньги, эти тридцать серебреников, когда она запирала их в свой комод — на что они ей-то? На другой день все-таки робко спросила дочь:
— Как же ты теперь, Таичка, без денег?..
— Как? Очень просто. Я теперь не завтракаю. И чаю пью одну чашку. А что? Жгутся серебреники?
Она действительно не завтракала, и ненависть горела в ней: было страшно за ее впалую грудь, где вмещалось столько безысходной злобы, себя самое кусающей. А еще через день и потом уже каждое утро Таисия сама спрашивала мать:
— Ну, что же? Целы ваши тридцать серебреников?
— Целы, Таичка.
— Ах, целы? Ну, берегите, берегите ваши тридцать серебреников! — и хохотала, вертя перед зеркалом свое желтое лицо с присохшими к деснам губами. Что-то обезьянье появилось в ней, вертлявое, нервно-раздраженное, остромигающее; и подбородок выдвинулся от худобы тупо и зло, и приподнялись костлявые плечи. Из окна комнаты видна была лесистая дорога на станцию, и, как очарованная, не сводила глаз Елена Дмитриевна с удалявшейся дочери, с ее несчастной и непримиримой спины. Уже точкой становилась эта спина в отдалении, а все грозила и влекла к себе взоры.