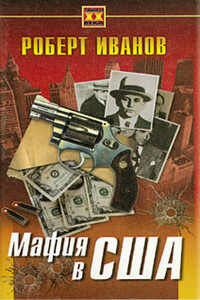Эрнест Хемингуэй | страница 31
Но, с другой стороны, и сам Итало Кальвино и многие американские критики, вплоть до такого академически сдержанного исследователя, как Деминг Браун, не могут не отдать должное Хемингуэю – писателю и человеку. И в самом деле, пусть некоторые герои Хемингуэя пытаются бежать от реальности – само трагичное бесстрастие автора лишь подчеркивает, что он-то понимает тщету их попыток и не разделяет их иллюзий. В то же время он не поддается и отчаянию, но находит в себе силы бороться с ним. Пусть его герои щеголяют маской скептицизма и безразличия, под нею скрыт большой нерастраченный запас моральной энергии, вдумчивая и широкая душа самого автора. Внимательного и дружественного читателя привлекает к Хемингуэю умение глядеть прямо в лицо жизни с ничем не замутненной зоркостью смелого и ясного взгляда. Врожденная, пусть и ограниченная воспитанием и средой, личная честность в постановке вопросов. Беспощадная требовательность к себе, без всяких скидок и поблажек, и величайшая откровенность в самооценке. Мужественность, стойкость, выдержка и постоянная мобилизованность человека, готового к борьбе с природой, с опасностью, с самой смертью. Понимание того, чем по-настоящему жив человек. Тяга к простой, чистой жизни. Готовность, если не способность, идти навстречу людям с тем, чтобы в минуты наивысшей опасности соединить с ними усилия для достижения общей цели. И, наконец, самый способ выражения – в целом простой, динамичный и впечатляющий. Словом, все то, что остается не только достоянием самого Хемингуэя, но и его вкладом в общее литературное дело.
Война в значительной степени сформировала Хемингуэя как писателя. Война стала прямо или косвенно одним из основных стимулов и тем его творчества, как хорошо известная ему сторона жизни. Но это в каком-то смысле ограничивает его кругозор. В «Севастопольских рассказах» Лев Толстой писал о войне на материале собственного военного опыта, но позднее он писал если и не о войне, то, по выражению Маяковского, «войною», и одновременно «миром», то есть жизнью во всей ее полноте. С годами сфера захвата его непрерывно росла в соответствии с огромным масштабом его всеобъемлющего таланта. Он мог быть Николенькой и Олениным, Андреем и Пьером, Левиным и Нехлюдовым, но одновременно – Наташей и Ерошкой, Акимом и Анной, Анатолем и Каратаевым, князем Сергием и Холстомером, князем Воронцовым и Хаджи-Муратом, – все время оставаясь Толстым, и в этом его неповторимая сила.