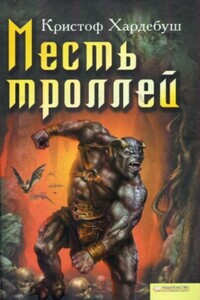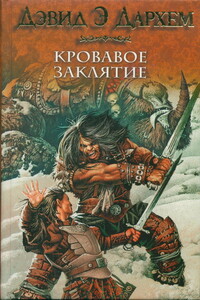Кащей и Ягда, или Небесные яблоки (к-ф `Легенда о Кащее`) | страница 55
И в это же самое время Перун, бивший молотом по остриям своих молний, ощутил укол в месте, которое у людей называется сердцем. Это был сильнейший укол. Выронил Перун молот, ухватился за наковальню. И хотя вскоре боль отпустила, удивление ею осталось.
Они встретились возле дерева жизни. Они оба к нему, не сговариваясь, с разных сторон небесного сада пришли. Сели рядышком, прислонились к стволу. Золотистые яблоки сами падали в их подставленные ладони. Они ели их жадно, как дети едят, залезшие в чужой сад. А потом богиня сказала:
– О мой громовержец! А не созвать ли нам богов на совет? Симаргла. Дажьбога. И Стрибога, его тоже.
– Отец слишком стар! – хмуро сказал Перун.
– Вот и Жар на земле говорит сейчас ровно то же – про Родовита.
Но Перун ее не услышал или услышать не захотел.
– Симаргл слишком юн! Дажьбог? Я не помню, чтобы он хоть однажды сказал дельное слово.
Медвяные пряди Мокоши не зазмеились, даже у прядей не было нынче сил. И все же богиня привычным движением согнала их с лица:
– Люди делают идола Велесу! И представь, из того самого камня, которым ты сделал его хромым!
Но вместо гнева – а Мокошь так ждала его гнева, ярости, бешенства – громовержец вдруг улыбнулся:
– Из того самого камня? Бедный Велес! Какая злая насмешка.
Или он научился у Мокоши свои мысли таить? Взгляд свой, по крайней мере, он прятал сейчас в золотистое яблоко. И богине вдруг стало по-настоящему страшно – жить и не читать его мыслей, жить и не знать грядущего!
3
Сказать, что в свои четырнадцать лет Ягда была хороша – ничего не сказать. Назло Жару она мазала лицо сажей, а в иные дни и наоборот, посыпала мукой – чтобы он вот так не глазел, чтобы ноздри свои чешуйчатые вслед ей не ширил. А только из черной сажи глаза ее еще ярче, еще васильковей блестели. А из-под белой муки румянец все равно выбивался, и был он сквозь белую эту изморозь, еще желаннее, будто солнце зимой.
Людей она не стеснялась. Ей все равно было, что будут люди о ней говорить – люди, которые стали Жару послушней скотины. А собственного отца, который из страха Жару во всем уступал, Ягда и вовсе ни в чем не смущалась. Однажды спросил у нее Родовит:
– Доченька, а если все же снова Жар о свадьбе заговорит…
А она и вопроса его не дослушала:
– Отравлю! – так сказала. – В лес ему пойду за улитками и за земляными червями, в крошево их с бледной немочью изрублю. И скормлю!
И такая в ней ярость была, такая решимость, – замолчал Родовит. Оробел ей сказать: неужели ты брата родного?.. И опять отца своего, Богумила, припомнил. И еще тягостней замолчал.