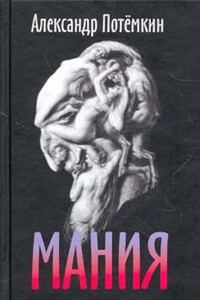Я | страница 44
— нет! Если я не стану о них вспоминать, то они не возникнут в мыслях. Они просто перестанут существовать. Ведь для червей, бабочек и трепангов люди не существуют. А почему для путивльцев должны существовать человеки? Мне не так важно, живы они или нет; главное, чтобы их не было в моем сознании. Чтобы я не видел, не слышал, не ощущал их присутствия!» Потом еще одна мысль, совсем простая, заставила меня усмехнуться: «А если лишиться слуха, зрения и стать немым? Весь космический мир уместится лишь в моем сознании. Я перестану контактировать с их видом, он не будет больше для меня существовать. Ведь я не вижу ультрафиолетовые и гамма-лучи, без микроскопа я не способен разглядеть актиномицеты, бактерии и споры. А почему я должен видеть и чувствовать кроманьонцев? Ломать себе голову над их усовершенствованием, судьбой? Разве мы не можем существовать в параллельных мирах? Я ведь не думаю, как изменить муху? Кстати, а почему бы и нет? Ведь из мухи, моркови, гриба можно сотворить нечто разумное. Может быть, более разумное, чем из людей. Ведь кроманьонца отличает от всех других живых существ лишь пять процентов генов, свинью — четыре, а крысу — всего три. Так из кого же лепить путивльца? Еще не однозначно, что из человеков, вполне возможно, что из крыс или свиней. Или сотворить букет из лучших генов homo sapiens, крысы и свиньи? Вот еще тема для размышлений. Но бог с ними!» В этот момент неожиданная мысль застала меня врасплох: «А что если непримиримость к близко соседствующему биологическому виду — чисто российский феномен? И не русский ли язык как таковой — главный виновник неприятия их существа? Не запретить ли его навечно и повсеместно? Не будет языка — запропастится, исчезнет и сам их мир. Может, и Отечество тут изрядно повинно? Россия с ее непреходящим нравственным хаосом? Но разве я являюсь их соотечественником? Нет, нет, не может быть! Но язык? Здесь есть какая-то тайна! Если я переселюсь, к примеру, в Италию и не стану изучать итальянский, то есть совершенно не захочу понимать местных жителей, почувствую ли я их близость, родство? Приму ли я их разумом? Улетучится ли этот мой беспощадный антагонизм?» Тут я услышал, как заскрежетали механизмы и начал закрываться занавес. Первая картина закончилась. Я сбежал вниз, убрал кресла, стулья, другой мелкий реквизит. Сцена оказалась свободной, поменялась мягкая стенка: на штанкетках спустилось панно — Лебединое озеро. Началась вторая картина — «Лебеди». Тут я опять поторопился подняться с арьерсцены на свою галерку, чтобы продолжить заниматься своим излюбленным делом: полностью отдаться медитации. Мог, наверное, возникнуть вопрос: как Василий Караманов взялся проводить эксперимент в среде человеков без интенсивного общения с