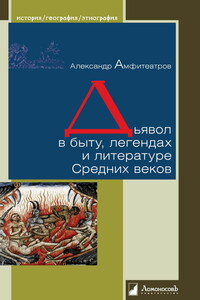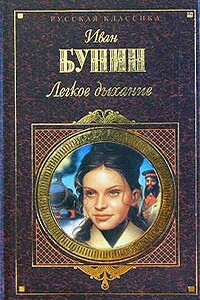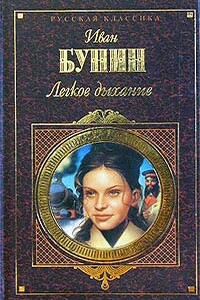Мечта | страница 13
Такою несчастною бабой — не только для закона, но и для потехи отчасти вышла Соня. Прохор был человечишка мстительный. Долгое пьяное вдовство, полное кабацкого тоскованья и кабацкого распутства, и обозлило его, и изгрязнило его. Он не забыл первого отвращения к нему Сони — под венцом; догадывался, что втайне он продолжает быть ей противен и презрителен, как ни искусно она притворяется; понимал, что иначе быть не может, не с чего быть иначе. За все это он мстил Соне именно преувеличенною, без уважения, грубо-повелительною нежностью напоказ: любуйтесь, мол, добрые люди, какой у нас с бабой лад. А ты, барышня, знай хозяина. Потому что ты мое: хочу — люблю, хочу — убью…
Советов Сони Прохор не хотел знать. В каждом желании подозревал: «Баба норовит зажать меня под пяту».
Он предпочитал поступить глупо, невыгодно, лишь бы по-своему, а не по бабьему разуму.
— Моя в доме воля! — тупо рубил он в ответ на все резоны и увещевания.
Слагался быт дикий, не одухотворенный ни любовью, ни дружбою, ни товариществом, ни взаимным уважением. Соне уважать Прохора было не за что. Для Прохора уважать — значило бояться. Когда Соня не сумела забрать его в руки и стать старшею в семье, он, в победном самодовольстве, запрезирал и жену, которую он так ловко скрутил, и положение, которое недавно их разделяло. Теперь он смотрел на Соню, как всякий серяк смотрит на свою бабу: существо небесполезное, но бесконечно низшее мужчины. Только в обыкновенном серяке этот взгляд прост и добродушен, — он не со зла, а «по старине». Прохор же, как маленький тиран, любил своею властностью оскорбить, огорчить, унизить.
Пока все это только проскальзывало, а не было общим правилом. Чувствовалось, но не въявь, — таилось. Таилось, пока Прошку связывали две силы: купленная на Сонину тысячу рублей возможность работать спустя рукава и еще не приевшаяся красота Сони.
Деньги растаяли в три года. Тырин — опять лицом к лицу с повседневною работой или нищетой, на выбор. У него на руках трое малых детей, прижитых с Сонею, да еще две девчонки от первого брака, с которыми неустанно возится, точно со своими, жена, подурневшая, постаревшая на десять лет от чрезмерного труда и частой беременности. Он озлобился и выбрал, что больше подходило ему, развращенному то безработицею, то ненадобностью работы: пьяную и праздную нищету. Словно уверился: «Куда ни кинь, все клин, одна каторга. Проклят я, и никакими силами прийти в благополучие мне нельзя».