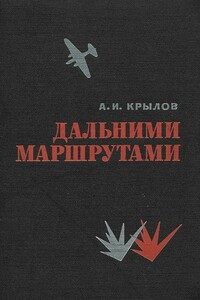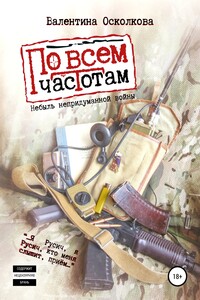Годины | страница 18
Увидел он, прежде всего другого, мать, даже не ее саму, а ее глаза и руки. Глаза, пустые, неподвижные, смотрели, не видя его, на жестяную звезду над свежим холмом могилы, а руки, холодные, зашершавевшие от бесконечности всякой работы, шарили по его шее и плечам, как бы ища, за что ухватиться. Под звездой лежал отец, загубленный бандой «зеленых» — сынками сельских богатеев. Отца, комбедовского активиста, взяли на крыльце дома, подвесили к березе, разорвали лошадьми. Макару шел одиннадцатый год, но в тот день он узнал, как люди, обычные на вид люди, превращаются в зверей. Руки матери наконец отыскали его руки, уцепились за них, как за спасение. С отчаянностью он сдавил их своими еще не сильными руками, прижал к жарким от горя глазам. Он выстоял в тот день, на себя принял свое горе и горе матери.
Среди прихлынувших воспоминаний ясно увидел он мать и в другой час — когда война объявила свой всеобщий сбор. Откуда бы ни смотрела на него мать, когда вместе с Иваном Митрофановичем полдничали они в последний раз, — от горящей печи, от лавки, на которую выставляла с шестка горячие противни с пирогами, от сундука в горенке, в которой лежали ее заветные вещи, — отовсюду сторожили его обеспокоенные глаза. И не страх он видел в ее глазах, а заботу, одну только заботу, чтобы все ладно было у него и там, на войне, чтоб не пал в тягостях духом, верой и правдой служил в ратном деле родной земле. Может, думала мать в тот час не так, как теперь казалось ему, но беспокойство ее и заботу о том, чтобы все у него было ладно на войне, он видел и знал точно. Забота подвела ее и к заветному сундуку. Достала тот, легкого пуха, платок, которым мечтал он укрыть стеснительные Васенкины плечи, хотела положить в солдатский его мешок. И застыли у груди ее руки с платком, и такую тоску по несбывшемуся увидел Макар в материнских глазах, что при всей своей сдержанности опустил голову, долго сидел за столом, не в силах слова молвить. Платок он велел носить матери. Но мать на глазах всех, кто был в тот час в доме, свернула, прибрала платок в сундук, сказала сурово: «Кому куплен, тому и подаришь. Когда придешь…»
Из притихшей деревни донесся тоскливый коровий рев, какой-то задавленный, будто из наглухо закрытого двора. Так неожиданно он нарушил устоявшуюся душную тишину пополудня, что Макар враз напрягся, поглядел на дорогу.
Вдали, там, где повис на проводах сбитый столб, поднялись серые вороны, лениво махая черными крылами, полетели над полем к лесу. Макар скорее почувствовал по дрогнувшему сердцу, чем осознал, что час, которого он ждал, наступил.