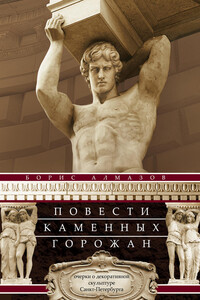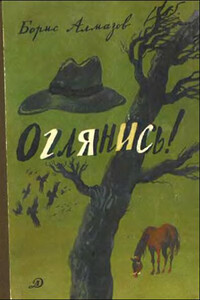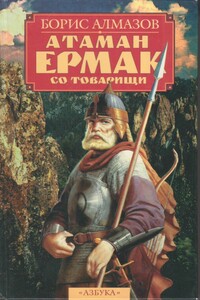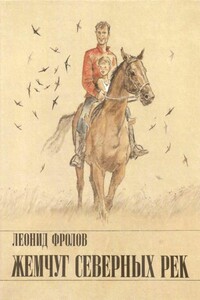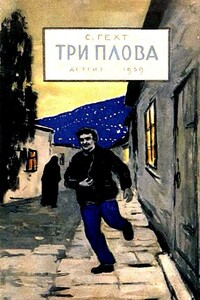Посмотрите - я расту | страница 44
— Ферцайн, — сказал он тихо. Он говорил почти шёпотом, у него не хватало слов. — Это есть вина германский народ…
— Весь-то народ не виноват, — сказал дядя Толя. — Товарищ Кляйст тоже народ германский.
— Я. Да. — Эйхель очень волновался. — Народ есть люди. Каждый человек… — У него дрожал подбородок. — Народ не есть масса, народ — много, каждый человек. Человек думайт: «Я не народ, народ другое». Нихт! Нихт! Каждый есть народ. Каждый есть вина. Кроме Кляйст! Я инженер, майн фатер дас арбайтен. Рабочий. Я учился, учился, учился… Фатер арбайтен… работал, а я учился на деньги. Много учился. Забастовка, революция! Я сказал: «Александр, какой твой дело? Ты есть учиться. Ты строить дороги. Хорошие дороги». Гитлер зажигай рейхстаг. Надо думай! — Александр яростно стукнул себя по лбу. — Александр, думай! — крикнул он ещё раз. — Найн! Я сказал: «Не твоё дело! Отец работай — ты должен учиться. Ты инженер — строить дороги. Не думай! Закрывай глаза, не твой дело!» Я строй дороги, — он повернулся ко мне. — Фроляйн говорил правда: по моя дорога шли танки, шла война. Я делал война! Я убиваль своя дети! — Он быстро вытер глаза. — Ферцайн. Простите… Гитлер сказал: «Коммунист есть враг. Кляйст — враг Германия». Найн! — закричал он и выпрямился. — Кляйст есть Германия! Такой главный Германия! Гитлер есть враг Германия!
Старики не перебивали его. И Александр говорил, с трудом подбирая слова, и я понимал, что он говорит не только нам, он говорит и себе.
— Нельзя быть в сторона. Невозможно. Никогда. Кляйст, Гришка — прости!
Он выпил. И повесил голову.
Старики долго ничего не говорили.
— Ты вот что… — сказал дядя Толя. — Ты, когда в Германию поедешь, скажи там, которые не понимающие, что, мол, мы народу-то не враги. И никогда врагами не были. Мы фашистам враги! Понял?
— Я, я! — загорячился Александр. — Понимайт. Я был нейтралитет, моя вина нейтралитет. Я сейчас есть антифашист! И другие антифашист.
— А насчёт прощения… — продолжал старик. — Рази ты своих детей воскресишь? Вот ему отца воскресишь? — Он заткнул бутылку, покидал лопаты в телегу. — Тут про другое надо думать: чтобы вот ему, — он кивнул на меня, — чтобы ему войны не увидеть. Так вот, чтобы им не воевать. Вот оно и будет вечная память Кляйсту и Грише.
Он напихал мне в карманы молодой редиски, сунул за пазуху кусок хлеба с салом. И телега покатила в деревню.
Мы остались вдвоём с Эйхелем. Немец долго сидел молча. Потом достал из кармана алюминиевую пластинку. Наверное, из миски суповой вырезал. Подошёл к обелиску, попробовал пальцем, просохла ли краска, и привинтил табличку четырьмя шурупами. На белой пластинке было нацарапано: