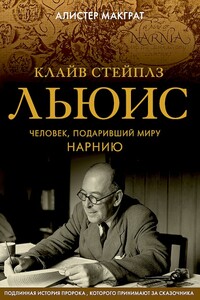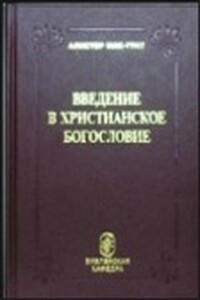Богословская мысль Реформации | страница 52
Эразм, однако, осознавал, что на предлагаемом им пути имеются серьезные препятствия, и предложил ряд способов их преодоления. Во — первых, Новый Завет нужно было изучать на языке оригинала, а не в неточном переводе Вульгаты. Это требовало двух инструментов, которых в то время не существовало: соответствующей филологической компетентности для работы с греческим текстом и прямого доступа к самому тексту.
Первый инструмент был найден, когда Эразм обнаружил заметки Лоренцо Валлы о греческом тексте Нового Завета, сделанные в пятнадцатом веке. Эти заметки хранились в архиве местного монастыря и были найдены и опубликованы Эразмом в 1505 г. Второй инструмент был найден после издания Эразмом первого печатного Нового Завета на греческом языке, Novum Instrumentum omne, который сошел с печатных станков Фробена в Базеле в 1516 г. Хотя более совершенная версия того же текста была сдана в набор в Алкале (Испания) двумя годами раньше, издание этой версии (т. н. Комплутенсаинской Полиглоты) задержалось до 1520 г. Текст Эразма не был таким надежным, каким он должен был бы быть: Эразм пользовался всего лишь четырьмя рукописями большей части Нового Завета и лишь одной рукописью заключительной КнигиОткровения. Так случилось, что в этой рукописи отсутствовали пять стихов, которые Эразм вынужден был перевести на греческий с латыни. Тем не менее, это издание было значимой литературной вехой. Богословы впервые получили возможность сравнить оригинал греческого текста с более поздним латинским переводом Вульгаты.
Основываясь на работе Лоренцо Валлы, Эразм показал, что ряд мест перевода Вульгаты является неоправданным. Так как ряд средневековых церковных обрядов и верований основывался на этих текстах, утверждения Эразма с ужасом были восприняты многими консервативными католиками (которые хотели сохранить эти обряды и верования) и с восторгом — реформаторами (которые хотели отменить их). Несколько примеров укажут на значение библейских исследований Эразма.
Христианская Церковь всегда придавала особое значение определенным обрядам или формам богослужения, известным как таинства (см. стр. 196-229). Два таких таинства признавались ранней Церковью как «Господние» (другими словами, восходящие к Самому Христу). Ими являлись Крещение и таинство, которое в настоящее время известно под рядом названий: «Месса», «Вечеря Господя», «Преломление хлеба», «Евхаристия». В своем изложении притчи о добром самарянине (Лк. 10: 35) великий патриотический богослов Августин утверждал, что две серебряные монеты, которые самарянин дал содержателю гостиницы, являются аллегорией двух таинств Евангелия, данного Христом Своей Церкви.