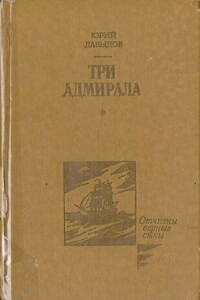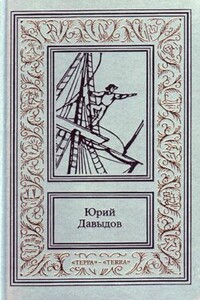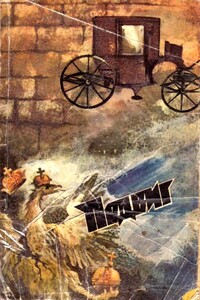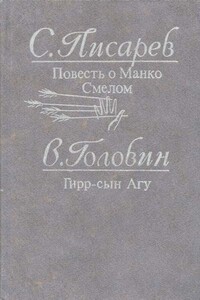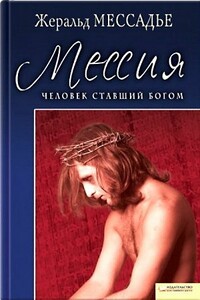Бестселлер | страница 65
Владимир Федорович недолго пребывал в Сенате. Он попросился в строй. И принял под команду Сибирский полк. В боях застенчив не был. И в действующей армии он действовал, покамест империя и император не отреклись столь обоюдно.
Опять он появился на Каменноостровском. В тот день, когда звенели на проспекте ребячьи голоса: «Ученье свет, а неученье – тьма!»: происходила демонстрация в честь Первомая. Джунковский грустно улыбался. Точь-в-точь как мой кузен, когда рассказывал: метелица, проулок, два гимназиста, скособочась, несут портрет Чайковского, добытый впопыхах, и каркают картаво: «Долой самодегжавие! Самодегжавие долой!».
Моя свояченица, как встарь, встречала генерала на проспекте. Он не менялся: жесткие усы, глаза серо-голубые, чистые, честные; лицом и статью– порода и значительность. Потом она его уж не видала. Брат и сестра Джунковские сменили Питер на Москву. Он был когда-то московским губернатором, в долгополой николаевской шинели летал в пыли снегов на сером в яблоках.
Да, жили на Арбате. Сестра Авдотья тоже, как и брат, «вся была в отставках»: бывшая фрейлина, бывшая попечительница обществ женского патриотического и сестер милосердия… Ах, Арбат, не ваш Арбат. И от которого и чувства не осталось, как не осталось ни извозчика, ни жесткой травки меж булыжников. А пешеход пугливо жался к облупленным фасадам.
Джунковские помаленьку проживали родовые. Нет, не полтавское имение, а камешки, колечки, брошки. Все то, что прежде считалось безделушками, а после катастрофы – насущными калориями. Но настоящим гнетом было ожидание ареста. Процедуру недавно упростили кронштадтские матросы. Загонят скопом в какой-нибудь подвал, и бас, привычный над реями реять, возвещает: «У каждого из вас, буржуи, всегда припрятано на черный день. Теперича вы, белые, выкладывайте в пользу красных». Такое вот купанье Красного Коня.
Фронтовая храбрость Джунковского храбростью не считалась. Война-то оказалась империалистской. Отечество было только у джунковских, у пролетариев отечества не было. Теперь вот появилось, но с эпитетом: «социалистическое». Здесь, в старинном квартале, комиссары, вооружившись ордерами, врывались в каждый дом. Начиналась эпоха великого оледенения и уплотнения. Фамилия моего сослуживца, капитан-лейтенанта, а потом военмора, жила в квартире из шести комнат на Мойке, у Синего моста. Процесс пошел, и почтенное старорусское семейство оказалось в полутора комнатах, и это привело моего приятеля к оригинальным соображениям, заслуживающим внимания ЧК: он полагал, что социализм следует возводить в согласьи с геометрией Лобачевского. Что до «геометрии» Джунковского, то оная, вероятно, пошла наискосяк. Точнее не могу определить. Тут уж не Гегель, а тут уж Гоголь. Вот кто не утруждался разысканиями, а просто-напросто сообщал читателю: мол, все происшествие совершенно закрывается туманом, и что было потом – решительно неизвестно. Похоже, так, но все же кое-что известно.