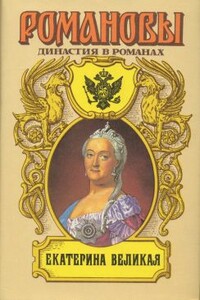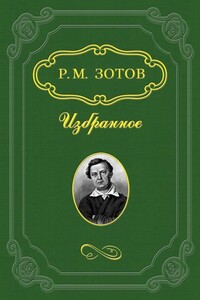Ширь и мах (Миллион) | страница 69
Эмете была особенно красива.
Голубое бирюзовое платье шло к ней, к ее нежному, светленькому и свеженькому личику, к ее тоже бирюзовым глазам, к ее светлокудрой головке, а серый, цвета золы, вуаль, ниспадавший покровом, придавал что-то особенно чарующее всему лицу… Она казалась еще белее, нежнее, румянец на щеках пылал ярче, обнаженная шея и тело в маленьком вырезе на груди сквозили в этих пепельных волнах тонкого вуаля и казались еще белее за сероватой дымкой кисеи.
Началась музыка… На этот раз виртуоз остался случайно глаз на глаз с княжной. Саид, после первой же сыгранной пьесы, начал отчаянно зевать и испросился уйти. Гассана еще раньше вызвали. Опекун и духовник тоже выехали или уже спали.
Морельен играл и играл… Томный взгляд, милая улыбка, серьезная складочка прелестных алых губок красавицы – все воодушевляло виртуоза. Быть может, на этот раз – и он это чувствовал – он играл лучше, чем когда-либо. И наконец, окончив одну пьесу и взглянув на княжну, виртуоз увидел ее лицо в слезах…
Эмете заговорила тихо и с чувством, но по-своему и как бы себе самой, и Морельен не мог понять ее. Зато все, что говорили прекрасные глаза в слезах, смущенное оживленное лицо, – он хорошо понял. Он видел ясно и то, как Эмете донельзя сконфужена и устыдилась своих невольных слез, как если б они были совершенно неуместные. Яркий румянец стыда покрыл все лицо княжны, когда виртуоз пристально стал смотреть на нее, польщенный этими слезами.
– Не надо это… Но не могу! – произнесла отчетливо Эмете, к изумлению Морельена.
– Вы? По-русски? – произнес он.
– Да. Немного. Много нельзя…
И оба, равно с трудом выражаясь, начали говорить по-русски медленно и односложно. Слов то и дело не хватало ни тому, ни другому. Артист произносил тогда поневоле немецкое слово, княжна какое-нибудь свое, дико звучавшее в ушах его. Они не могли понять друг друга, но затем, при помощи усиленной мимики и жестов, кончили тем, что понимали обоюдно то, что хотели сказать.
Морельен был очарован красотой, ласковостью и простым обхождением княжны. Она смотрела на него иногда так милостиво, что виртуоз начинал смущаться своими собственными помыслами.
Он не знал что подумать, как объяснить эту ласковость обхождения.
«Говорят, что действие музыки на диких, – подумалось ему, – неотразимое, волшебное. Уверяют, что музыка их, как и змей, может непостижимо очаровывать. А ведь эта княжна полудикая по происхождению и воспитанию. Она никогда, может быть, не слыхала у себя на родине никакого инструмента… Тогда понятно, что она должна перечувствовать в первый раз в жизни при такой игре, какова его…»