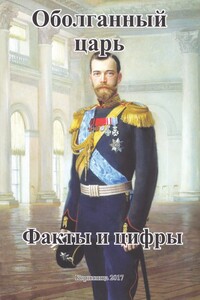Раннее христианство и переселение душ | страница 134
То, что церковный собор так поздно выступает с официальным осуждением этой идеи, связано совсем с другим обстоятельством. Дело в том, что пока правда видна и не оспариваема, можно не заботиться о словах. Женщина может впервые задуматься о том, как она любит своего ребенка — лишь если ее спросит телекорреспондент. Но это не значит, что она не любила его прежде, хотя у нее и не было раньше повода подобрать надлежащие слова…
Или, ближе к реалиям церковной истории: только если появится некий «педагог», который скажет, что «любить ребенка — значит каждое утро его избивать и ни в коем случае не кормить его чаще одного раза в три дня», педсовет скажет: «говорящего подобное да не подпускают к детям!» Но не означает же это, что ранее педсовет придерживался иной точки зрения! И хотя прежде в педагогической литературе никогда не высказывалась столь ясно и прямо такая точка зрения, это никак не значит, что памятный педсовет своим «анафематизмом» сказал «новое слово» в педагогической науке.
Анафема не возглашается посторонним. Анафема — это отлучение от Церкви. Отлучить от Церкви можно только уже принадлежащих к ней. Пока некое учение существует вне Церкви — Церковь не формулирует догматического суждения о нем, предоставляя отдельным полемистам вести дискуссию со «внешней мудростью». Но если собственно церковные люди вдруг начали принимать эту идею и даже проповедовать ее как собственно церковную — вот тут Церковь уже должна предупредить: это не мое!
Соборная анафема верованию в реинкарнацию была провозглашена столь поздно потому, что до этого это верование не встеечалось внутри церковной ограды. В Церкви до сих пор нет анафемы марксизму или конфуцианству. Вот если придет в Россию ультрапротестантская «теология смерти Бога», и появятся христианские богословы, уверяющие, что Бога нет, да и вообще не было, и что путь в земной рай лежит через обострение классовой борьбы — тогда Церковь этих богословов отделит от себя — их, а отнюдь не профессиональных пропагандистов научного атеизма, которые и не делали вида, будто они выступают от имени Церкви.
А затем, лет через тысячу, найдется новая пророчица, которая глубокомысленно заметит: смотрите, православные лишь в конце ХХ века анафематствовали атеизм — а, значит, до этого все христиане были атеистами!
В этой связи стоит вспомнить полемику между И. Ильиным и Н. Бердяевым по вопросу о вооруженном сопротивлении большевикам. Ильин эпиграфом к своей книге «О сопротивлении злу силою» вынес евангельский рассказ о Христе, бичом изгоняющем торговцев из храма. Бердяев в ответ небезосновательно заметил, что к большевикам этот образ приложить уж никак нельзя: их нельзя силой выгнать из храма по той простой причине, что они в нем и не находятся. Они извне разрушают Храм. Как верно отметил М. Курдюмов, не безбожному большевизму была провозглашена анафема святителя Тихона. «К кому были обращены грозные послания Первосвятителя? Не надо забывать, что в ту пору бесчинствовал и насильничал сам народ в огромном большинстве своем. Угар революции вскружил голову даже некоторым представителям церковного клира. Пишущему эти строки пришлось в качестве члена первого Московского Епархиального съезда наблюдать таких делегатов от приходов и благочиний, которых один московский священник справедливо назвал «социал-псаломщиками» и «социал-дьяконами». Вот ко всем этим взбаламученным массам и обращал Патриарх свое обличительное слово и им, а не главарям большевизма, угрожал он церковной анфемой» [