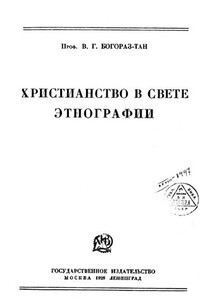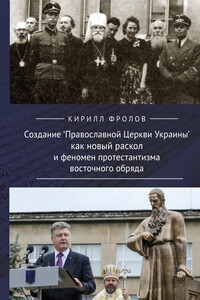Курс патрологии | страница 84
Во втором отрывке символика автора значительно усложняется. Не останавливаясь на всех многочисленных нюансах данной символики, можно отметить только, что Церковь-башня на этот раз строится на огромном белом и древнем камне, имеющем высеченную в нем дверь. Камень сей есть Сын Божий, рожденный прежде (προγενέστερος εστίν) всякой твари, поскольку Он присутствовал на Совете Отца Своего, созывавшемся относительно создания мира. А «дверь» — «новая», потому что Сын явился в последние дни и сделался «новой дверью» (καινή έγένετο ή πύλη) для того, чтобы желающие спастись через нее вошли в Царство Божие. В данном отрывке появляется еще одна тема, которую условно можно назвать «богословием имени». В частности, здесь говорится, что только принявшие «святое имя» Сына Божиего могут войти в Царство Божие (Под. IX, 12, 1–5). Эта тема получает дальнейшее развитие чуть ниже: имя Сына Божиего называется «великим», «безграничным» (или «непостижимым» — άχώρητον; можно перевести и как «то, которое нельзя вместить»), и оно «держит весь мир» (τον κόσμον όλον βαστάζει). Β мироощущении автора это «имя» практически отождествляется с «Именуемым», ибо тут же говорится, что «все творение держится Сыном Божиим». Но особенно Сын «держит» Церковь, т. е. тех, которые «от всего сердца носят имя Его» (Под. IX, 14, 5–6).
Если попытаться кратко обобщить экклесиологию Ерма, то можно сказать, что второй аспект ее представляет Церковь в, так сказать, «динамическом аспекте», т. е. в перспективе «возрастания от земли к небу». Другими словами, она является не только предсуществующей метафизической реальностью, но и реальностью эсхатологической, которая осуществится в полноте лишь в Царстве будущего века, а здесь на земле осуществляется лишь частично. Можно предполагать и связь обоих аспектов: Церковь предсуществующую следует, вероятно, мыслить как некий «Домостроительный план» спасения людей; она есть как бы «чертеж будущего здания», который Бог — Зодчий нашего спасения — «набрасывает» перед началом Своего творения мира. Само же «здание» реализуется в полной своей мере в «эсхатологической Церкви», являющейся венцом творения. Наконец, в произведении намечается и несомненная связь экклесиологии и христологии, поскольку Сын Божий есть Камень, заложенный в основание здания Церкви. Поэтому экклесиология, христология и сотериология в «Пастыре» Ерма тесно увязываются друг с другом.
Данная связь этих граней богословия автора ярко проявляется в понимании им таинства крещения. Помимо уже указанного образа «возведения башни на водах», еще одно место произведения достаточно подробно трактует это таинство (Под. IX, 16). Здесь говорится, что необходимо «выйти из воды» (букв, «взойти вверх через воду» — δι'ύδατος άναβηναι), чтобы оживотвориться». Поэтому крещение является необходимым условием спасения: «Ибо человек до принятия имени Сына Божия мертв, но когда он принимает пе{с. 76}чать (την σφραγίδα), то тогда отлагает мертвость и воспринимает жизнь. А печать есть вода: в нее сходят мертвыми, выходят же живыми». В связи с таинством крещения Ерм рассматривает и проблему покаяния, занимающую одно из центральных мест в его сочинении. Судя по всему, в кругах, близких к автору, наметилось разномыслие среди христиан на сей счет. В произведении говорится, что «от некоторых учителей» (παρά τίνων διδασκάλων) Ерм слышал, будто «нет другого покаяния (έτερα μετάνοιαν), кроме того, которое происходит, когда мы сходим в воду и получаем отпущение прежних прегрешений наших». Другими словами, среди современных Ерму христиан наметилась «партия ригористов», утверждающих, что есть только одно и единственное покаяние перед таинством крещения. После него христианин обязан не грешить, ибо другого покаяния для него нет и быть не может. Сам Ерм, решая данную проблему, пытается найти несколько иной ответ на нее. С одной стороны, он как бы соглашается с ригористами и говорит: «Получившему отпущение [прошлых] прегрешений уже нельзя грешить, но должно жить в чистоте (εν άγνει'α κατοικείν)». Однако далее Ерм в значительной степени нейтрализует ригористическую точку зрения, как бы переводя ее в плоскость нереального идеала: для «уверовавших ныне» (подразумеваются, скорее всего, «оглашенные») и для тех, кто еще уверует, покаяния нет, ибо им еще предстоит крещение («отпущение прегрешений»). Но для «призванных прежде сих дней Господь положил покаяние, ибо Он, будучи Сердцеведцем и Провидцем, знал немощь людей и лукавую изворотливость (πολυπλοκιαν) диавола, а также ведал, что он будет творить зло рабам Божиим и вредить им. Поэтому Многомилостивый сжалился над Своим творением и установил сие покаяние». Впрочем, Ерм уточняет: «Если кто после этого великого и святого признания (την κλησιν — то есть крещения), будучи искушен диаволом, согрешил, то он имеет одно покаяние (μιαν μετάνοιαν); но если он будет постоянно грешить и каяться, то бесполезно для такого человека покаяние и жизнь его будет трудной» (Зап. IV, 3:1–6). Таким образом, мысль автора «Пастыря» достаточно прозрачна: он мягко, но решительно, отстраняется от точки зрения ригористов: покаяние после крещения для него, безусловно, играет важнейшую роль в жизни христианина. Однако столь же решительно Ерм отстраняет и противоположную крайность — частое и бесплодное покаяние является мощной преградой на пути духовного преуспеяния и делает жизнь христианина «затруднительной» (δυσκόλως…. ζήσεται).