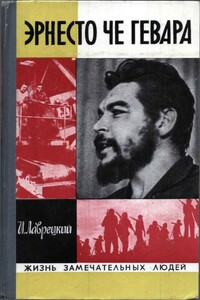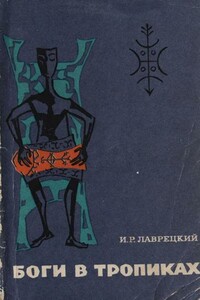Инквизиция | страница 42
Манихейство пустило глубокие корни, особенно в Византийской империи, где одна из его разновидностей — павликианство, вопреки преследованиям, сохраняло свои позиции еще в IX в.
Мы перечислили далеко не все ереси, которые раздирали как раннее, так и позднейшее христианство. Под внешней религиозной оболочкой борьба велась за вполне материальные интересы людей, различных общественных классов.
Церковная иерархия, интересы которой отождествлялись с эксплуататорскими классами, всегда вела ожесточенную борьбу с ересями.
Однако неспособность справиться с ними мирными средствами все больше убеждала церковных иерархов в необходимости применения к ним насильственных мер воздействия.
Одним из первых богословов, обосновавших необходимость применения к еретикам силы, вплоть до их физического уничтожения, был Августин (354–430), «доктор церкви», крупнейший христианский теолог периода раннего феодализма, возведенный церковью в ранг блаженных и почитаемый ею по сей день как непреложный богословский авторитет.
Августин в молодости был сторонником манихейства.
Отказавшись впоследствии от своих еретических взглядов, он повел энергичную борьбу против донатистов, ариан, манихеев, пелагианцев и последователей других еретических учений, раздиравших в то время христианский мир.
Взгляды Августина на борьбу с еретиками претерпели три стадии. Вначале он пытался как бы средствами пропаганды — путем богословской полемики — переубедить донатистов и других вероотступников. Затем стал рекомендовать относиться к ним с «ограниченной строгостью» (temperata severitas), т. е. применять к ним всякого рода репрессии, за исключением пыток и смертной казни. Под конец Августин стал ратовать за применение всех средств воздействия к еретикам, включая пытки и казнь, чем вполне заслужил «славу» первого «идеолога» инквизиции. Как же аргументировал этот «доктор церкви» необходимость принятия крутых мер по отношению к еретикам? Аргументы его были двоякого вида: церковные и мирские. Ссылаясь на уже цитированные нами места Ветхого и Нового заветов о расправах с вероотступниками, Августин делал следующий вывод: христианская любовь к ближнему обязывает не только помогать вероотступнику спасти самого себя, но и принуждать его к этому, если он добровольно отказывается отречься от своих пагубных воззрений.
Августин уподоблял еретиков заблудшим овцам, а церковников — пастухам, обязанность которых вернуть этих овец в стадо, пуская в ход, если надо, кнут и палку. Нет необходимости казнить заблудшую овцу, достаточно ее высечь, чтобы как следует проучить.