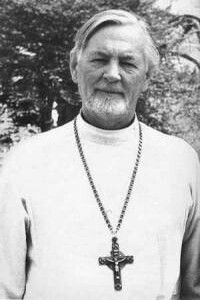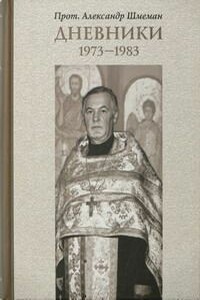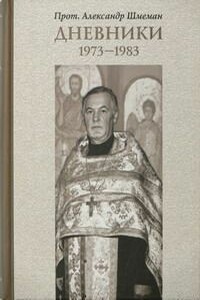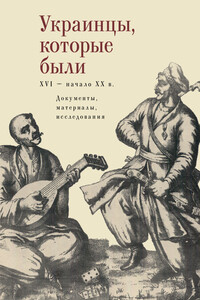Исторический путь православия | страница 58
Но значение Никейского Собора прежде всего, конечно, в одержанной на нем величайшей победе Истины. От него не осталось, как от других Вселенских Соборов никаких протоколов или «деяний». Известно только, что собор осудил арианство, а в традиционное содержание крещального символа веры ввел новое уточнение об отношении Сына к Отцу, назвав Сына единосущным Отцу, то есть имеющим ту же сущность, что Отец, и, следовательно, равным Ему по Божеству. Слово это, по замечанию В. В. Болотова, было настолько точным, что «исключало какую бы то ни было возможность перетолкования»: арианство им осуждалось безоговорочно. Но именно это слово и оказалось на долгие годы камнем преткновения и соблазна, ввергло Церковь в длительную смуту.
Эта смута заполняет собою пятьдесят шесть лет, отделяющие первый вселенский собор от второго — Константинопольского в 381 году. В ней нужно различать разные темы, но нужно видеть также и связанность их между собою: они почти в равной мере определяют собою дальнейшую историю Церкви, в которой вряд ли другие пятьдесят лет имели равное значение.
Внешне причиной смуты было то, что осужденные ариане не только не «сдались», но при помощи очень сложных интриг сумели привлечь на свою сторону государственную власть: так поставлена была первая тема — участие Императора в жизни Церкви. Скажем заранее, что итоги четвертого века с этой точки зрения более чем отрицательны, они поистине трагичны. Но тут же необходимо сразу определить и вторую тему арианской смуты. Торжество ариан было бы невозможно даже и при помощи Императора, если бы Церковь, осудившая почти единогласно Ария, оказалась единой в этом осуждении и, главное, в принятии положительного Никейского учения. Но этого как раз не случилось: Никея внесла смущение и сомнения в умы, но тогда нужно поставить вопрос о богословском содержании после-никейской смуты. А в этом разрезе четвертый век, напротив, имеет положительное значение, показывая воочию конечную силу Истины в церковной жизни даже в безнадежных обстоятельствах.
Большинство участников собора легко приняло осуждение арианства: слишком очевидно искажал он исконное церковное предание. Но совсем иначе обстояло дело с положительным учением о Троице, заключенном в слове «единосущный». Это слово выдвинула и его фактически навязала Константину, а через него собору, маленькая группа дальновидных и смелых богословов, понимавшая недостаточность одного осуждения Ария, необходимость «отчеканить» Предание Церкви в ясном понятии. Но для большинства епископов это слово было чуждо и непонятно: в нем впервые в вероучительные определения вводился философский термин, чуждый Писанию; притом термин даже подозрительный: это «единосущие», не возвращало ли оно в Церковь совсем недавно преодоленный соблазн савеллианства, не «сливало» ли снова Отца и Сына в «одну сущность»? И все же Собор, по просьбе Константина, принял это слово в Символ Веры, не очень вникая в его смысл: епископам казалось, что главное — осуждение ереси, что же касается Символа Веры, то на деле каждая Церковь имела свой, согласный со всеми другими по существу, но не обязательно по букве. Таким образом, внешне собор кончился благополучно, если не считать повторной — после донатизма — ошибки Константина, сославшего Ария и его единомышленников и тем снова смешавшего суд Церкви с судом Кесаря.