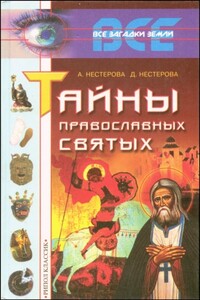Руководство по истории Русской Церкви | страница 53
Остатки язычества.
Вооружаясь против нравственных настроений общества, церковь должна была в то же время с особенной настойчивостью бороться против даже прямых остатков язычества. Это было время еще самого грубого двоеверия в народе. Многие по старой памяти ходили молиться под овины, к священным деревам, озерам и кладезям, сходились на языческие игрища и проч. Не забыты еще были и древние мифы; в «Слове о полку Игореве» говорится и о ветрах — Стрибожьих внуках, и о Дажьбоге, и о Хорее, которому прерыскивал путь волкодлак (оборотень) Всеслав полоцкий, и о Бояне — внуке Велеса, и о мифической силе стихий, к которым плачущая Ярославна (супруга Игоря) обращается, как к божествам, с воззванием: «почто господине?» Мы видели, как сильны еще были волхвы. Сам летописец разделяет народную веру в их силу, только, сообразно с новыми понятиями, приписывает эту силу дьяволу. О Всеславе полоцком он рассказывает, что мать «родила его от волхвования с язвой на голове, и волхвы сказали: навяжи на эту язву на уз, который пусть носит до смерти; Всеслав точно носит его до сих пор, от того он так и кровожаден». В другом месте летописец уверяет, что волхвования особенно бывают от женщин, повторяя языческие понятия о ведьмах. Церковь преследовала полуязыческие народные игрища и волхвов, но ее меры не могли проникнуть в недоступные недра семьи, где главным образом и хранилась языческая старина. Тут по-старому краяли (резали) хлеб, сыр и мед Роду и Рожаницам, молились домашнему очагу, употребляли разные заговоры и чародейные средства; приметы, обряды и поверья окружали всю домашнюю жизнь, так что проповедники прямо обличали народ в язычестве.
Примеры благочестия в жизни русских князей и пастырей церкви.
При слабом усвоении христианства в народной массе не удивительно, что примеры истинно христианской жизни за описываемое время известны нам преимущественно между высшими классами и духовенством. Восходящее солнце озарило еще только вершины — низменности лежали в прежнем мраке. Первый пример нравственного возрождения под влиянием христианской веры представляет нам сам Владимир. Из удалого вождя дружины, чуждого земле, какими были и он, и все прежние князья, он стал первым земским князем нарядником (распорядителем — прим. ред.), который думал с дружиной, епископами и старцами «о строи земляном», который и воевал уже не из одной беззаветной богатырской удали, а для защиты своей страны, стал «красным солнышком» народа. Его широкая натура, которая вела его прежде к излишествам языческого разгула, теперь проявлялась в необыкновенном благодушии и ласковости, о которых говорят и летопись, и старые былины. Это был ласковый князь, у которого весьма был радушный прием и привет, добрый кормилец нищих, покровитель слабых. Бедняк смело шел на его княжеский двор и брал кушанье, питье и деньги. Этого мало: «дряхлые и больные, сказал князь, не могут доходить до моего двора», и велел всякие припасы развозить для них по городу. В праздники он ставил трапезы себе с дружиной, духовенству и нищим. В своем церковном уставе, как мы видели, он тоже позаботился о богадельнях и больницах. 15 июля 1015 года умер добрый князь и плакали по нему все, знатные и убогие. Мощи его положены были в Десятинной церкви. По следам Владимира пошли дети его, — второе христианское поколение русских князей, — мученики