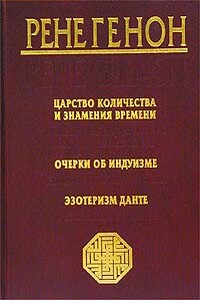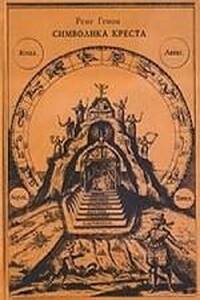Заметки об инициации | страница 64
Рассматривая ближе это глубокое тождество обряда и символа, мы прежде всего можем сказать, что символ, понимаемый, как это чаще всего бывает, в качестве «графического» изображения, есть лишь своего рода фиксация обрядового жеста.[111] Причем, само вычерчивание символа, как правило, происходит в условиях, сообщающих этому процессу черты обряда в собственном смысле слова; мы видим ясный пример этого в такой низшей области, как магия (которая, невзирая ни на что, является наукой традиционной) с ее набором изображений талисманов; а на уровне, нас непосредственно интересующем, вычерчивание «янтр» в индуистской традиции представляет собой не менее поразительный пример.[112]
Но это еще не все, ибо понятие символа, на которое мы только что сослались, по правде говоря, слишком узко; имеются не только изобразительные и визуальные, но также и звуковые символы; мы уже указывали на существующее в индуистской доктрине различие между двумя основными категориями — «янтрой» и «мантрой».[113] Тогда же мы уточнили, что преобладание той или другой категории символов характеризует два рода обрядов, причем визуальные символы были связаны первоначально с традициями оседлых народов, а звуковые — народов кочевых; впрочем, ясно, что между теми и другими не следует проводить абсолютного разделения (вот почему мы и говорим только о преобладании); здесь возможны любые комбинации, обусловленные множеством адаптации, происходивших в течение веков, когда учреждались различные известные нам сегодня традиционные формы. Эти рассуждения достаточно ясно показывают связь, существующую в целом между обрядами и символами; но мы можем добавить, что в случае «мантры» эта связь видна более отчетливо; в самом деле, тогда как визуальный символ, будучи начертан, пребывает в неизменном состоянии (вот почему мы говорили о фиксированном жесте), звуковой символ, напротив, становится доступным восприятию лишь в ходе самого совершения обряда. Впрочем, это различие смягчается, когда устанавливается соответствие между визуальными и звуковыми символами; так происходит при письме, представляющем собой настоящую фиксацию звука (разумеется, не самого звука как такового, но постоянной возможности его воспроизведения); и едва ли нужно напоминать в связи с этим, что любая письменность, по крайней мере в ее истоках, есть в первую очередь символическое изображение. В конечном счете, так же обстоит дело и со словом, которому в силу самой его природы в не меньшей степени присущ символический характер; вполне очевидно, что любое слово есть не что иное, как символ идеи, которую оно призвано выразить; равным образом и язык, устный и письменный, является поистине совокупностью символов; вот почему язык — вопреки всем «натуралистическим» теориям, изобретенным в новейшие времена с целью его объяснения, — не может быть ни более или менее искусственным творением человека, ни простым продуктом его чисто индивидуальных способностей.