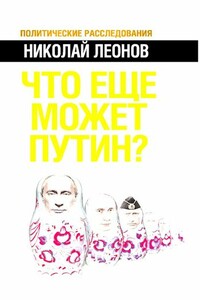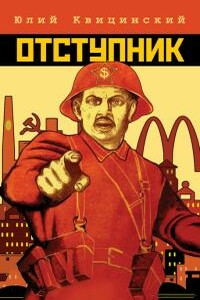Наш Современник, 2006 № 12 | страница 12
Рано утром в субботу двинулись в путь. Райкомовский жеребец Ястреб степенно вышагивает по пыльной дороге. В седле — дядя Миша, я за его спиной, бочком, ноги свешены, руками держусь за седельную луку. А вокруг — мирная послевоенная красота: небо голубое, ни облачка, птицы заливаются, травы колышутся под ветерком, а слева и справа — пни, пни, пни, груды поваленных высохших деревьев, и лишь у горизонта — тёмно-синие зубчатые гребешки настоящего леса. Это немцы создавали вдоль дорог зоны сквозной видимости — чтобы партизанам было труднее подобраться.
— Под автоматами людей сгоняли на эти “лесоразработки”. День и ночь старики, женщины, дети, вроде тебя и постарше, лес валили. Боялись они партизан, боялись, гады!
Дядя Миша закашлялся, сплюнул и подытожил:
— Ничего, Михалыч, леса снова вырастут, главное — войны больше не будет. Согласен?
Конечно, согласен. Только вот ехать становится как-то всё неудобнее, противнее. Руки онемели, попона сползает книзу, ну и… вообще…
— Тпр-ру! — Ястреб останавливается, дядя Миша оглядывается на меня и смеётся: — Что, никак мозоли на мягком месте появились? Всё ёрзаешь, казак, да не жалуешься. Давай-ка слезай, отдохни, а потом в седло — твоя очередь, а я километра два-три пёхом — ноги разомну.
Ястреб двинулся за старшим в поводу, а я с наслаждением заколыхался в мягком кожаном седле. Плюх-плюх, плюх-плюх… Так, с остановками и пересадками (в мою пользу!) и добрались мы до свадебной деревни, до дяди Мишиной родни.
“Ахи” и “охи”, объятья, град вопросов, раскатисто-твёрдое белорусское “р” и не менее твёрдые “шыпяшчые”. Который месяц я всё ещё не мог привыкнуть к особенностям здешнего языка, произношения многих понятных, но словно бы переиначенных русских слов. Впрочем, за полгода я весьма заметно продвинулся в освоении мовы. (А в десятом уже рискнул сдавать госэкзамены по белорусскому языку и литературе — несмотря на опасения учителей и родителей.) Самое главное — мне удалось быстро усвоить незыблемый принцип мовы: “Як слышыцца, так и пишэцца”. Уже через две недели после приезда в Толочино мне удалось написать белорусский диктант на твёрдую “троечку”. Смешно сказать, но меня даже в пример другим ребятам поставили… Был жуть как неудобно — они же, в отличие от меня, три года в школу не ходили, так что и вообще подзабыли, как и что пишется. Ну а для меня тот “трояк” за диктант навсегда остался самой драгоценной отметкой.
V
После обеда прогулялись по деревне. Стучали топоры, визжали пилы, перекликались мужики: на месте недавних пожарищ вырастали свеженькие срубы, весело вставали над ними стропила, там и сям уже блестели на солнце оконные стёкла. Вокруг слоился, струился мой любимый запах только что распиленного дерева. Запах жизни и надежды.