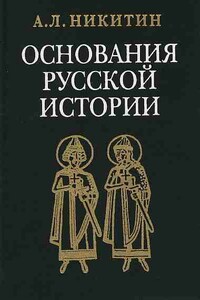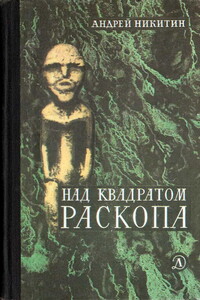Основания русской истории(требуется редактура) | страница 25
Наиболее ярко и определенно характер его работы в недатированной части ПВЛ проявился в истории полян, насыщенной толкованиями легендарных топонимов Киева, и полемике о Кие, эпониме его родного города, который вовсе не был «пере-возником», а «княжаше в роду своем» [Ип., 7-8], в последующей истории обров и дулебов, которая завершается характерным замечанием, что «есть притча в Руси и до сего дни». Эта синтагма «и до сего дни», воспринимаемая многими исследователями в ка____________________
3 Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953, с. 21.
КРАЕВЕД-КИЕВЛЯНИН В ПВЛ____________________
33
честве некоего хронологического рубежа4, тесно связана с творчеством «краеведа», возникая по поводу улутичей и тиверцев, которые «седяху по Бугу и по Днепру и приседяху к Дунаеви». Так как последний фрагмент, посвященный происхождению полян, деревлян, радимичей и вятичей безусловно разорвал текст, начинающийся словами «поляномъ живущимъ особе, якоже ркохом» и продолжающийся «имеяхуть бо обычая своя», вопрос о принадлежности последнего «краеведу» может быть решен пока только предположительно, как и в отношении вставки из Георгия Амартола5, хотя замечание «яко же и ныне при насъ половци законъ держать отець своихъ» указывает, скорее всего, уже на XII в. Более определенно его руке принадлежит продолжение рассказа о полянах и «козарех», традиционно заканчивающегося сентенцией, что «володеють бо козары русьтии князи и до днешняго дне» [Ип., 12].
Тот факт, что в основание дошедшей до нас редакции ПВЛ была положена история «земли полян» с ее центром в Киеве, не вызывает сомнений уже потому, что эта история прослеживается и далее в рассказе о приходе «варягов», первыми вестниками которых являются Аскольд и Дир, затем - Олег, выступающий законным преемником династии Полянских князей, после чего поляне, как известно, становятся «русью».
Не имея фактов, прямо указывающих на авторство «краеведа» в изложении легенды о призвании «варягов», т.е. наличия излюбленных им синтагм, я всё же считаю возможным отнести на его счет сюжет о Рюрике с братьями, которые «придоша къ словеномъ первее» [Ип., 14], в то же время оставляя открытым вопрос о принадлежности ему комментария к этнониму "русь", уже непонятного читателю XII вв. и объясняемого при помощи лексемы "варяги" («сице бо звахуть ты варягы «русь», яко се друзии зовутся «свее», другии же «урмани», «аньгляне», «готе», - тако и си»), которое ставило «русь» в один ряд с другими этносами Северной Европы, хотя явное противоречие между утверждением, что «от техъ варягь прозвася Руская земля», и сообщением о приходе Рюрика с братьями в Новгородскую землю, которая никогда не называлась «Русью», указывает на возникновение данной концепции в Киеве, а не в Новгороде на Волхове.