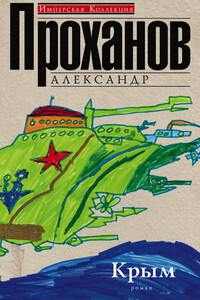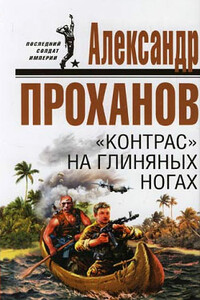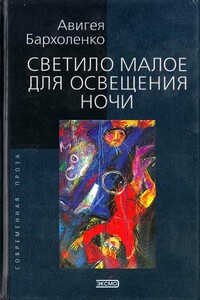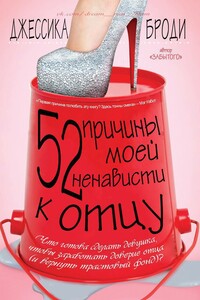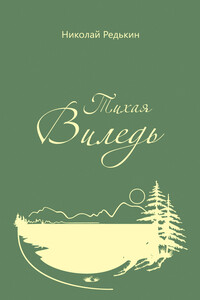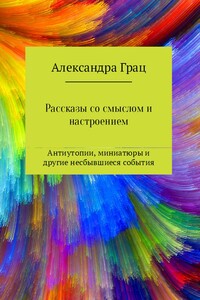Наш Современник, 2006 № 10 | страница 31
К вечеру, почитав “Книгу хожений”, вышел из каюты. Писано “неискусно, а просто о местах святых”, написано, кажется мне, одним кротким дыханием. Святые церкви, мощи, гробы, смоковницы и дубы у дороги, странники, монахи, жизнь, превращённая веками в ларец забвения. Выскочил наверх, а там вовсю бесится люд, весело дрыгается джаз Олега Лундстрема, грохот оркестровых тарелок, восторги меломанов, избранность другого рода; в баре дегустация вин, в телеокне ковбойский фильм, в каюте поют о казино. Везде какие-то лёгкие чужие люди…
…А за бортом тёмное море, чистота, тайна тысячелетий…
Плывём назад. Где моя Пересыпь? Чувствую, как там сейчас тихо во дворе и в огороде.
26 ноября. Стамбул. Шёл в Айя-Софию и вспоминал школьные учебники, карту и то, как “княгиня Ольга” приняла от греков крещение. И школа далеко-далеко, и ещё дальше тёмные века. Ну конечно, это счастье, Божья милость — ступить на камни, истёртые ногами святых и верующих, увидеть купол высокий, стены и приоткрыть дверцу загадки для детской души, внимавшей когда-то в сибирском углу учительнице с указкой в руке… А ничего не изменилось, стоял я возле Солоухина и Потанина в храме ребенком, безмерно смиренным перед незнаемым скрытым миром… какой-то Византии. “Да кто услышит (или прочтёт) о местах святых, устремился бы душою и воображением к этим святым местам и Богом будет приравнен к тем, кто совершил путешествие в эти места”.
1995
20 августа. Когда-нибудь, лет через семьдесят, дотошный историк будет искать записочки или расспрашивать глухого старца об этих днях. Патриарх больше не появится в наших местах. Четыре дня были историческими, но человек в своей душе не отмечает историю в то мгновение, когда всё проходит перед глазами. Он думает больше о своей участи в эти громкие минуты. Кто-то сопровождает, близко стоит возле патриарха, обедает с ним и складывает ладошки под благословение, едет за ним в машинах, подчёркивая всему остальному миру свою избранность и пренебрежение, кто-то идёт мимо с сумкой или сидит дома, ничего не зная. Мгновение повисло в воздухе, и всевидящее око ловит святое в шевелящейся суете людской.
Обыкновенное всегда наверху.
На трапезе в станице Новомышастовской я беспрерывно глядел на дьякона. Я знал его уже несколько лет. На Господни праздники (Рождество, Пасху) телевидение ставило в кафедральном соборе в Москве свои камеры, и патриарху всегда прислуживал маленький, скобочкой постриженный дьякон, без которого, кажется, некому было пропеть “Еще молимся господину нашему…”. Голос у него был оперный, и я как-то благодарно радовался, что Русь наша не скудеет народом, приблизившим свой талант к церкви, и думал с восхищением: какое же богатство было раньше! какие гении пели по храмам за много веков, и никогда мы их имён не узнаем! Дьякон был моим любимцем. И вот он нынче сидел передо мной наискосок за другим столом и брал с тарелки вилкой длинную рыбу. Наши взгляды ни разу не пересеклись. Он никого нас, домашних, не запомнил, как будто никого, кроме привычных князей церкви, вокруг и не было. Нас это не обижало: ведь мы добивались минуты посмотреть на них.