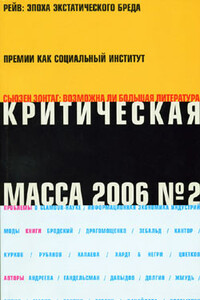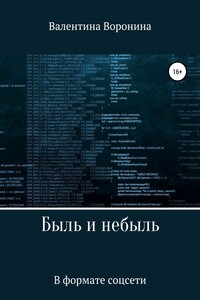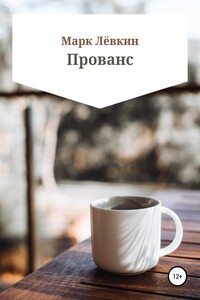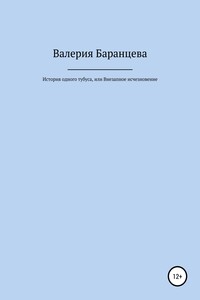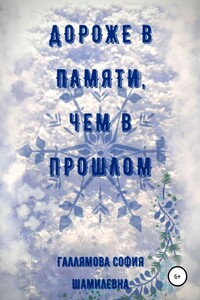Критическая Масса, 2006, № 3 | страница 9
П. Г. Да, но в Германии не только режиссерский театр, но и фундаментальная музыкальная культура существует не в двух городах и потребляется не десятью “экспертами” и двадцатью репортерами. Кстати, ты не слишком идеализируешь ситуацию в немецком музыкальном театре? Известно, что это театр “левый” и даже “левацкий”. Так вот, я несколько раз слышал от представителей немецкой публики — скажем так, очень богатой буржуазной публики — раздраженные реплики о нежелании более соотноситься с этикой и эстетикой этого театра. Известно, что на твоей премьере “Бориса” в берлинской Опере Unter den Linden зал раскололся. Об этом писали в здешней прессе, это обсуждали, кто с сочувствием, кто с сожалением, кто со злорадством. Признайся, некоторое напряжение было.
Д. Ч. Безусловно. И я рад, что это произошло так. Но это напряжение возникло не в результате трения между убогим традиционализмом с его жаждой кринолинов и попыткой современного взгляда на вещи — в немецких оперных театрах (и особенно в Komische Oper, которая была воспитана еще в 60-е годы Вальтером Фельзенштейном) эта проблема давно снята. Я думаю, что причины напряжения на премьере в Германии могут быть любые другие: публика могла быть недовольна той историей, которую я рассказал (она была все-таки очень депрессивна), публике, например, могло показаться, что это все не соответствует требуемому привычному взгляду на далекую Россию, публика могла быть недовольна воплощением, публика могла кричать “бу”, потому что ей могло показаться, что, например, это плохо, некачественно сделано, потому что я какой-то подозрительный русский варяг, который ставит у них, в их главном немецком театре, публика могла кричать “бу” по каким-то еще причинам, но у немцев нет отношения к “Борису Годунову” как к “матрешечной” опере — у них нет этой эстетики, поэтому они не могут жаждать нарисованных соборов с золотыми куполами. У них этого нет в крови.
П. Г. А ты считаешь, что соборные купола на сцене — это “матрешечная” эстетика, шапка-ушанка-балалайка-икра-балет-водка?
Д. Ч. Та опера, по которой тоскует в России Татьяна Москвина — это “матрешечная” эстетика. Это пустота ужасная и интеллектуальная скудость — больше ничего там нет. Я знаю, как эти оперы делаются, как они ставятся, как рисуются.
П. Г. Мы начали разговор с фотографий времен Императорского театра. На этих фотографиях бесконечные купола — академические, декадентские, импрессионистские — но вряд ли это можно назвать “матрешечной” эстетикой — она тогда еще просто не существовала. Это был, если можно так выразиться, чистый сценический реализм — непосредственное отражение времени и места действия. Ты считаешь, что этот оперный театр, оперный театр XIX века был концертным исполнением оперы в картинках?