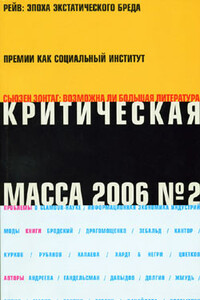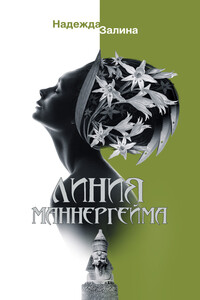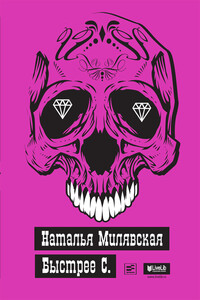Критическая Масса, 2006, № 3 | страница 31
Создатели русской версии ЖЖ не только перевели с английского пользовательский интерфейс сайта, они нашли этому интерфейсу совершенно новое применение. Если “журналы” американцев, англичан, израильтян — как правило, разрозненные личные дневники, сгруппированные по 20—30 по специфическим интересам, русскоязычные журналы — это театр со своими сценой и зрительным залом. На сцене — десятки публично активных персонажей, на журналы которых подписаны по тысяче-две читателей (и вокруг них в свою очередь тоже возникают локальные кружки). Тысячи пользователей ЖЖ обсуждают информационные поводы, поступающие из “ядра”, ссорятся из-за идей и создают политические коалиции. Можно проследить каналы, по которым в сетях ЖЖ циркулируют слухи, сплетни, новости, не сложно обнаружить “лидеров мнений” (opinion leaders), влияющих на мнения других людей.
Объяснение, которое мы находим российскому успеху ЖЖ, до пошлости банально: в России, в отличие от развитых стран, нет офф-лайнового гражданского общества и связанного с ним публичного пространства, но, как и в этих странах, есть свободный доступ к технологии виртуальных сетей. Пивные и кофейни играли роль публичного пространства для узких компаний, величина внимающей аудитории которых определялась длиной стола. Публичные лекции? — Едва ли. Ток-шоу? — Помилуйте. ЖЖ? — pourquoi pas…
Красивый и в то же время очевидный ход — рассказать о роли ЖЖ с помощью теории совещательной демократии (deliberative democracy), предложенной представителем франкфуртской критической школы социологии Юргеном Хабермасом, с ее понятиями публичной сферы (public sphere) и коммуникативной рациональности (communicative rationality). В обществе, где легитимно правят бал стремления людей к власти и деньгам, личные интересы, ангажированность препятствуют достижению общего блага, установлению оптимальных правил жизни, не ущемляющих никого. Единственная возможность для дискуссии и надежда на построение лучших институтов — это так называемая публичная сфера, где каждый может открыто высказывать свое мнение, провоцируя диалог равных, побуждая к размышлению вслух. И если в споре рождается истина, то истина парламентаризма рождалась в английских пабах, идеалы Просвещения формировались в парижских салонах, шкалы культурных ценностей складывались и в масонских ложах, и в спортивных клубах, и в литературных кружках.
Захватывая “жизненный мир” чем дальше, тем больше, рыночная идеология превращает добровольные объединения, коммуникацию людей, не имеющую утилитарного смысла, в единственную лакуну для вымещения своих гражданских чаяний и самовыражения. Поэтому, по мысли Хабермаса, в публичной сфере произвольная “трепотня” на общие темы будто бы на уровне хобби или отдыха от повседневных дел в действительности имеет для личности значение много большее, чем просто развлечение. Перед нами пример не просто “общения ради общения”, — этот термин немецкий социолог Георг Зиммель использовал для описания светских “беспредметных” диалогов, — а общение ради 1) общения, то есть поддержания коммуникационного пространства в принципе, 2) приобретения веса в глазах того самого светского круга, 3) чувства удовлетворения от борьбы с собой в стремлении “быть тем, кем ты хочешь казаться”. Обо всем по порядку.