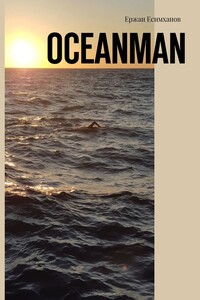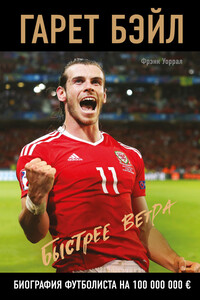Футбольный театр | страница 47
Наступил 1921 год. Военные действия на западном театре войны закончились. 15-ю армию перевели в Россию, в Великие Луки. Случайно ли так совпало, или кто-то подсказал квартирмейстерам, но при расквартировании штаба меня поселили в дом, где имелось пианино.
Несколько дней спустя в дверях штаба я случайно встретился с Хрулевым. Он прошел мимо, не обратив на меня внимания. Но вдруг остановился, оглянулся и сказал:
– Сушков, поди-ка сюда. Я подошел.
– Проезжал я тут… из машины заметил вывеску: «Великолукская музыкальная школа». Ты узнай, может, она и не работает? Если работает, запишись и начинай учиться. Я скажу, чтобы тебя отпускали. Выйдут какие сложности, приходи ко мне. Чем смогу, помогу.
Школа работала. Я стал учащимся ее фортепианного отделения. Но вскоре, по совету нашего хормейстера, который нашел у меня неплохой голос, поступил в класс вокала.
…Поздней осенью 1921 года наступил конец моей солдатской жизни – пришел приказ о демобилизации. Один из товарищей по службе уговаривал меня поехать к нему на родину, в Симбирск. Я серьезно отнесся к этой мысли – в Москве мне нечего было делать. К этому времени я уже получил печальные вести. Семья моя уехала в Ростов еще в девятнадцатом году. Там от черной оспы умерла мать… На фронте погиб брат Сергей. Остальные разъехались кто куда, след их временно потерялся.
Я согласился ехать в Симбирск с одним непременным условием: остановиться на несколько дней в Москве.
Первая же встреча здесь поломала мои планы.
Сева Кузнецов (напомню: полузащитник из СКЗ) буквально бросился мне на шею. Он тискал меня, обнимал. В глазах его стояли слезы.
– Мишка! Живой! – восклицал он. – Ну, радость какая! Ребята нынче умрут от радости!
И тут я понял: попал домой. Домой! Во всей глубине, сложности и многозначности этого слова. В то место, где тебя ждут, где тебя знают, где в тебе нуждаются, где по тебе тоскуют, наконец. В место, где тебя понимают, где тебе помогают, где на тебя сердятся за то, что делаешь глупости в ущерб самому себе.
Я не лежал в окопах, но два с половиной года тем не менее изо дня в день моя жизнь висела на волоске. Редко бывало, когда наш полевой штаб находился вне зоны артиллерийского обстрела, не раз приходилось выходить из тылов противника, пробиваться сквозь смертоносные полосы сплошного огня. И потому за эти два с половиной года я прожил жизнь куда более длинную, чем мои московские друзья. Думаю, им здесь тоже было несладко. Сейчас мне казалось, что прошло очень много времени и вряд ли кто-либо, кроме родных, способен на столь длинную дружескую память обо мне. К тому же во мне говорил неизбежный комплекс возвращающегося на родину солдата – он ощущает в себе некую ущербность, ему кажется: пока он служил, товарищи его росли, набирались ума, утверждались в жизни. Он чувствует свое сильное отставание и боится снисходительных взглядов.