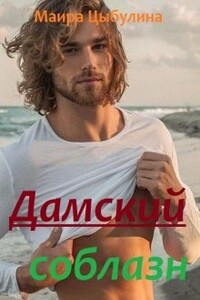Дуэт | страница 10
Однажды Герман примчался из школы с продленки, возбужденно размахивая портфелем, весь переполненный нетерпеливым ожиданием скорой встречи с любименьким Модей, как он тайно звал своего друга, которому хотел поведать один очень важный секрет, и с разбегу, словно на стену, наткнулся на странную взвинченность обитателей своей квартиры. Разговоры тихие, торопливые, выжидательно-торжественные. Герман никогда раньше не замечал, чтобы соседи так перешептывались. Дверь в комнату Модеста Поликарпыча была приоткрыта. Неубранная кровать стыдливо зияла продранным постельным бельем. Шкаф виновато раскрыт. На письменном столе валялось небогатое содержание ящиков — выцветшие и измятые по краям фотографии улыбающихся убиенных царских деток, вынутый кем-то из красивой рамки красного дерева акварельный портрет печальной молодой дамы, старые шахматы, чашки с блюдцами, какие-то деловые бумаги, квитанции. Несколько исписанных листочков соскользнуло на пол, но их уже некому было подобрать. Некому было притворить дверцы шкафа и торопливо прикрыть постель. Хозяин навсегда покинул свой нищенский земной приют. Душа его, возможно, еще витала у родных предков, а тело сепаратно устроилось в морге. Транзитным пассажиром, конечно. Похороны Герман совсем не помнил.
Пока на кухне шли поминки, говорились тосты и сожалелось о том, как мало Карпыч нажил добра, так что соседям и поживиться было нечем, Герман караулил у дверей комнаты своего единственного друга с палкой в до боли сжатых руках. Он был уверен, что Модя где-то рядом, немой и плененный, ждет от него подмоги. Десятилетнему Герману смерть казалась невозможной, отвратительной каргой с черными резиновыми руками, которую надо было подстеречь и отнять у нее Модеста Поликарповича обратно. Несколько ночей он, дрожа от страха и холода, караулил ее в пустой комнате Поликарпыча, но потом до вселения новых жильцов управдом освободившуюся жилплощадь опечатал. Герман чувствовал себя беспомощным и виноватым.
«Единственный способ избежать боли — это никого не любить. Не буду любить своих родителей — мне будет до лампочки, умрут они или нет. Не буду любить себя — и все станет не страшным. Да и за что мне себя любить, если я даже не смог спасти единственного друга?» — так теперь думал Герман. Он сделал вид, что не любил Модеста, но это помогло лишь отчасти. Боль жила в нем и жалила, словно оса, каждый раз, когда он проходил мимо заветной двери, напоминая ему о собственном предательстве. Мальчишка не знал, куда от этой боли деться, и все прыгал по квартире как оглашенный, пока на него не начинали орать соседи, а мать только плечами пожимала: «Откуда такая черствость? Видно, в детстве все быстро заживает. Оно и к лучшему».