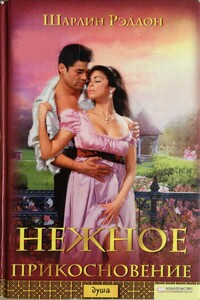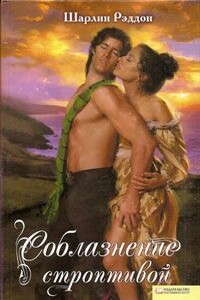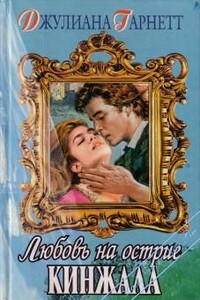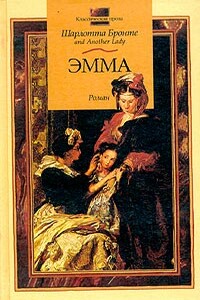Навеки моя | страница 73
Эри шмыгнула носом, и Бартоломью заметил следы слез, блестевшие в свете камина у нее на щеках.
– Я не знаю, что задержало дядю Ксеноса на такое долгое время, но две недели назад он появился в папиной конторе. Когда папа… – Эри ударила себя по лбу, как бы наказывая себя за то, что сказала слишком много, рассказала Бартоломью почти всю правду. Она вскочила на ноги и принялась ходить взад-вперед, сплетя пальцы и с усилием заставляя себя продолжать.
– Когда дядя Ксенос узнал, что мама и отец уже… ушли, он спросил, где можно найти меня. Я теперь сирота, Бартоломью, не замужем и совсем одинока – если не считать моих греческих родственников. Он собирался взять меня с собой в Грецию и выдать замуж, чтобы поправить финансовое положение семьи и вернуть то, чего лишила их моя мать. Что мне оставалось, как не убежать? Если я должна выйти замуж за незнакомца, я бы предпочла, чтобы он был американцем и, – она ударила себя в грудь, – человеком, которого я выбрала сама.
Повернувшись к Бартоломью, Эри увидела, что тот просто потрясен ее рассказом. Затем его густые черные брови нахмурились, это придало ему такой грозный вид, что ее дядя наверняка побежал бы без оглядки назад в свою Грецию, если бы увидел Бартоломью в этот момент.
– Ваш дядя собирался принудить вас уехать вместе с ним? – он поднялся на ноги и сейчас возвышался над ней, застыв от бешенства и чего-то еще, чему она не могла подобрать определение.
Эри замерла, загипнотизированная выразительностью его взгляда. Бартоломью посмотрел на нее, и гнев его угас. Он взял ее руки в свои и нежно прижал ее голову к своей груди.
– Он не увезет вас никуда, – прошептал он, нежно вытирая пальцами слезы с ее щек. – Я обещаю, я не позволю, чтобы с вами случилось что-нибудь плохое.
Бартоломью с силой зажмурил глаза – его пронзило осознание того, что именно он пообещал. Ему не придется ее защищать. Она будет женой Причарда, а не его. Гнев и страх потерять ее, ошеломившие его, когда он услышал ее рассказ, отступили, уступив место бешеному водовороту страстей, какому-то жуткому соединению муки и беспомощности. Он любит ее больше жизни, но никогда не сможет признаться ей в этом, никогда не сможет назвать ее своей. Много раз в своей жизни он хотел бы начать все сначала, родиться заново, а сейчас он просто хотел умереть. – Я боюсь, Бартоломью.
Ее слова заставили его выбраться из той бездны жалости к самому себе, которую он себе уже уготовил.
– Но не дяди Ксеноса, – добавила она, – а другого… как я могу выйти замуж, когда я даже не знаю, что случится со мной в брачную ночь?