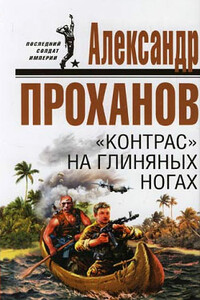Рисунки баталиста | страница 39
Все это толпище, яростную, страстную молитву снимал англичанин многократно и точно, меняя камеры, подходя и вновь отступая.
Морозов понимал: что для одних вера, то для другого, англичанина, представление, им же самим поставленное. Азартно-холодный, он извлекает из этих страстей и молитв свой особенный, точно-бесстрастный эффект. И он, Морозов, оглушенный сегодня утром, брошенный, как тюк, на хребет коня, привезенный в кишлак, он – пленник не этих свирепых бородатых людей, а рыжеусого фотографа. Он, фотограф, хозяин судьбы Морозова. Он – режиссер той пьесы, которая сейчас разыгрывается и в которой Морозову уготована еще неясная, но страшная роль.
«Дух, действительно дух!» – шептал он. Так называли солдаты душманов, но главным «духом» был англичанин, и его он чувствовал как злую, против него направленную силу.
Англичанин распрямился, не выпуская из рук фотокамеры, отер с лица пот. Окуляр послал через улицу в зрачок Морозову острый блик. И сразу, следом, вошли два «духа» с винтовками, внося на стволах все тот же расщепленный, жалящий блик.
«За мной? Меня?» – подумал Морозов, обмирая, готовясь погибнуть, не желая погибнуть, готовясь биться, кричать, кидаться на эти струящиеся по железу лучи. Но охранники шагнули мимо него, в темный угол, где сидел, обняв колени, солдат-афганец. Тот смотрел не на улицу, а куда-то вбок, вращая большими белками. Что-то сказали ему, ткнули винтовкой. Он поднялся, тощий, сутулый, неся большую бритую голову на худой смуглой шее, с обмотанной рукой, которую прижимал к животу. Мгновенное посетившее Морозова облегчение сменилось острым состраданием, предугадыванием того, что случится.
Вскочил, кинулся к солдату. Натолкнулся на дуло. Солдат смотрел на него, что-то шептал, что-то хотел передать. То ли прощался, то ли ободрял, то ли чему-то хотел научить. Его пихнули. Прикрикнули. Солдат переступил порог. Осветился солнцем. Затоптался на месте. И две винтовки подтолкнули его вперед. Он пошел через улицу к стене, мимо молящихся соотечественников, мимо бронированной зеленой машины, в которой настиг его взрыв, уничтожил товарищей, сохранил его одного для этого дня, для этой минуты. Один, без друзей, идет через пыльную улицу к желтой глинобитной стене, где что-то розовеет и сохнет.
Точный прицел аппарата выхватывал его смуглое узколобое лицо, и тень на земле, и волны молящихся, и серпик на кровле мечети, и изглоданную взрывом броню, и двух конвоиров в шароварах, в патронташах, ступавших гибко и мягко.