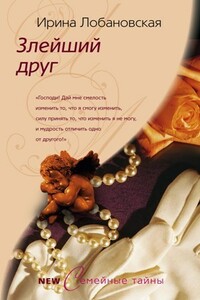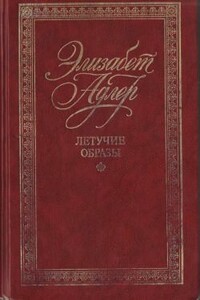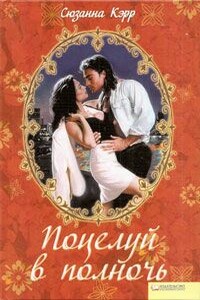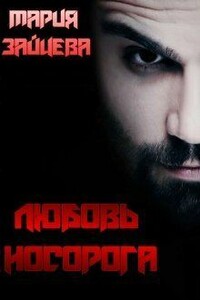Лестница на небеса | страница 40
— Зачем же ты такие пишешь?
— Потому что…
Она невольно осеклась. Ну как ей объяснить, что она их даже не записывает? Просто иногда думает в стихах… Просто думает. Так легче думается… Ей показалось, что единственный человек, который мог бы это понять, стал таким далеким, и ей захотелось закричать от боли, потому что сама была виновата. Все испортила…
Она уже приготовилась. Даже попыталась найти Понятные слова, но стоило ей поднять глаза, как все слова растаяли. Она и сама удивилась собственной немоте, постигшей ее, как тяжелое заболевание. Внезапно.
Таня смотрела на нее теперь холодно и властно.
— Так вот, — тихо проговорила она. — Можешь не хотеть дальше. Но на твоем месте я бы все-таки согласилась. Не в твоем положении фордыбачиться. Поняла?
Мышка отчаянно хотела возразить ей, сказать, что никто не заставит ее делать то, чего она не хочет, но тут в голову пришла простая и ясная мысль. Хотите? Получите…
— Хорошо, — кивнула она и улыбнулась. — Я буду участвовать…
Она развернулась, шагнула к выходу. На секунду обернулась.
Таня сидела озадаченная. По ее виду Мышке было ясно — она уже начала подозревать, что настаивала зря. Но пока еще успокаивала себя, пытаясь внушить, что эта странная девчонка не в состоянии выкинуть фортель, причинить ей, Тане, какие-то неудобства. Слишком мала… И трусиха.
— Турнир послезавтра! — крикнула она ей вслед.
Мышка ничего не ответила. Просто вышла, плотно закрыв за собой дверь.
— И впрямь чумная какая-то, — недоуменно пожала Таня плечами.
Он шел не разбирая дороги и даже не заметил, как посерело небо. И когда первые капли дождя щелкнули его по щеке, подумал: «Словно небо нашло способ дотронуться» — и вдруг почувствовал себя… счастливым. Ощущение было странное, и сначала он вообще не понял, что с ним произошло. Просто губы сами растянулись в улыбке. Просто серость неба впервые действовала не угнетающе, а наоборот, ему стало уютно и спокойно. Более того, его не раздражал окружающий пейзаж с этим нескончаемым грязно-розовым заводом, и люди, одетые одинаково, в серо-черное, показались ему не бесформенной массой, материалом для лепки в чьих-то бездарных руках, а такими же, как он сам. Просто более несчастными, чем он, потому что были покорны чьей-то злой воле и только ночью, осмелев в темноте, задавали себе вопрос: что делают с их жизнью? Почему они позволяют это делать с ними? Почему их единственная жизнь должна быть для чего-то? Для кого-то? Для чьего-то удобства? Почему они отныне не твари Божий, а просто — твари?