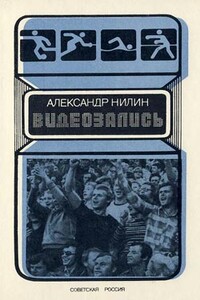Стрельцов. Человек без локтей | страница 83
Конечно, на придирки к нему он часто сам и напрашивался.
Но неужели человек, чья футбольная гениальность никогда не вызывала сомнений, не заслуживает того, чтобы быть рассмотренным отдельно и особо, не добираясь сотым до сотни, говоря словами другого поэта, пострадавшего в один год со Стрельцовым?
Собственно, на подсознательном уровне Эдуарда давно выделили, как не выделяли ни до, ни после никого из самых замечательных спортсменов. Время выразилось не в одном таланте его, а в славе, неуместной в том регламенте, что был принят тогда в нашей северной стране, — время рвалось вперед, а его по советской привычке сдерживали недозволенными приемами.
Автор строчки, где спряглись «стиляга и стрельцов», Евгений Евтушенко сначала ввел Эдуарда в свою прозу под именем Коки Кутузова. Трудно сказать, до или после фельетона с поставленным Стрельцову диагнозом звездной болезни закончил он работу над рукописью рассказа, но точно, что сочинял его после первого июня пятьдесят седьмого года, когда сборная СССР играла в Лужниках против румын. В рассказе Евгения Александровича он и его друзья в каком-то захудалом ресторанчике, который им, безденежным юношам, по карману, встречают своего соседа — футболиста, нарушающего спортивный режим накануне ответственного матча, неумеренно пьющего пиво. Рассказ называется «Третья Мещанская», а Стрельцов из Перова, но поэт разрушает автобиографичность своей прозы ради того, чтобы укрепить ее выразительнейшим знаком: присутствием в жизни автора футболиста номер один. Первый поэт и первый футболист обязаны соседствовать в завоеванном знаменитостями мире. Летом в Коктебеле, когда Эдик будет уже приговорен к лесоповалу, Евтушенко скажет: «У советской молодежи есть три кумира — Глазунов, Стрельцов и Евтушенко». Что не помешает ему очень-очень скоро — поэма опубликована в десятой, октябрьской книжке толстого журнала — для рифмы к слову отцов (речь идет о наплевательском отношении к памяти старшего поколения) соединить Стрельцова со стилягами. Вообще-то и претензии к стилягам в творчестве «первого поэта» не до конца ясны для меня. Помните: «И пили сталинградские стиляги»? Дальше стиляги стреляют там — в стихотворении — винными пробками в стену, где написано: «Сталинград не отдадим». Евтушенко-то зачем встречать кого-либо по одежке? Сам же вроде бы натерпелся от советских пуритан и просто недоброжелателей. Еще в начале пятидесятых в стенной газете Союза писателей Константин Ваншенкин посвятил ему дружеские стихи, где проходился по длиннополым пиджакам и всему прочему, в чем щеголял недовольный в недалеком будущем стилягами стихотворец. Много позже Евтушенко опубликует стихи, посвященные их давнему спору-ссоре с Василием Шукшиным. Шукшин, избранный во ВГИКе не то комсомольским секретарем, не то — не помню точно — в институтский комитет комсомола, чуть ли не сам ножницами резал узкие штаны различным маменькиным и папенькиным сынкам, с его точки зрения, затесавшимся в престижный вуз. А в стихах Евтушенко предлагает автору снять позорящий его, как сибиряка со станции Зима, галстук-бабочку. Поэт же заявляет Шукшину, что и сапоги кирзовые — точно такое же пижонство и выпендреж, если человек, сыгравший в кино главную роль, в состоянии купить себе хорошие и дорогие ботинки. И он скинет свою «бабочку» лишь при условии, что Василий Макарыч вылезет из своих «кирзачей»…