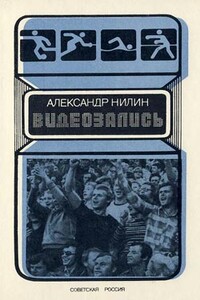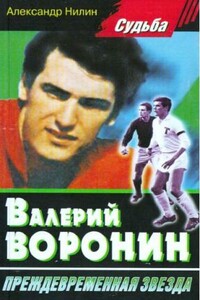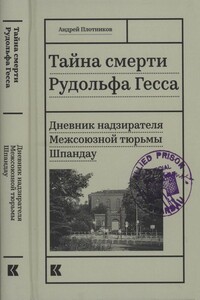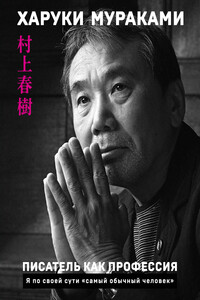Стрельцов. Человек без локтей | страница 50
С мировым первенством у них вышла неувязка. Выигрыш со счетом 8:3 в подгруппе у команды ФРГ, вокруг которой накануне турнира никакой шумихи не возникало, помешал венграм полностью мобилизоваться на финал — и финал остался за немцами, так, впрочем, и не разубедившими футбольных снобов, что венгры все равно сильнейшие по гамбургскому счету. Вместе с тем упущенный исторический шанс для футбольной страны обычно приводит к депрессии то поколение игроков, которому не суждено было стать поколением победителей.
Пройдет четыре с половиной десятилетия и в обновившихся «Известиях» журналист Семен Новопрудский, родившийся намного позже матча нашей сборной с футболистами ФРГ в ранге чемпионов мира, выступит с эссе, утверждающим, что Германии шок от фашизма помог преодолеть футбол. Мысль примечательная и в том еще контексте, что постановка спортивного дела в ГДР копировала советскую, но из-за немецкой пунктуальности во многом ее утрировала. Успехи на международных соревнованиях были значительными, но слепо служили пропаганде, а не одушевлению страны, калькирующей чужую казарменность.
Новопрудский в германской истории XX века акцентирует три ключевые даты: 1918 год — поражение в Первой мировой войне, после чего последовало крушение монархии и многолетняя изоляция страны, 1945 год — поражение во Второй мировой войне, расколовшее страну надвое, 1954 год — нежданная победа немцев на мировом чемпионате по футболу, ставшая началом возвращения Германии под именем ФРГ в мировое сообщество. Новопрудский предлагает отрешиться от ассоциации команды-чемпиона с прочной машиной, сделанной с кондовым немецким усердием. Он видит в победившей всех сборной ФРГ Германию, выражающую себя в футболе с не меньшей полнотой, чем в своих автомобилях или трактатах своих великих философов.
У нас же, при всей запрограммированности во все советские времена на победу любой ценой, отличать победы от поражений на уровне аналитики не хотят и не умеют.
С той победы над чемпионами из Германии и должно было начинаться наше восхождение к чемпионству, сумей мы понять, что сильны мы тем, что в нас чудом не задушено.
Но у нас господствовала беспочвенная мечта превратить себя в немцев, больших, чем сами немцы, и мы, чаще всего вместо того, чтобы стать кем-то, становимся никем только от неодолимого желания стать всем — и немедленно.
Года за два до публикации эссе Новопрудского в издании, расположенном напротив «Известий», высказано было по-своему аргументированное предположение, что есть сегодня резон поискать необходимую нам национальную идею в футболе. Не помню сколько-нибудь внятных откликов на такой призыв. И думаю все же, что национальная идея лежит в культуре нашей, искусстве и литературе — и не надо искать ее, она давно найдена, хотя, увы, не защищена населением страны, с каждым годом всё слабее ощущающим себя народом… А что до футбола, то ему, футболу страны, декларирующей себя великой, нельзя, по-моему, страшиться быть зрелищем для избранных, а не просто званых. Демократический характер действа не должен уводить его вовсе уж из поля эстетики, когда диктовать футболу свой вкус, точнее, безвкусие, могут те, кто ничего в футболе, кроме нарастающей агрессии, не видит. Своеобразие отечественного футбола в корневой связи с культурой страны, где стал он за прошедшее столетие всепроникающе популярен. И разве же не соотносимо явление в нем Эдуарда Стрельцова с наиболее типичными явлениями народной жизни, преобразуемыми в искусстве и литературе?