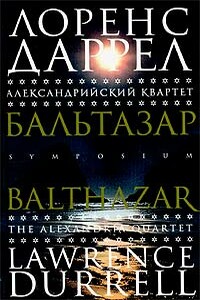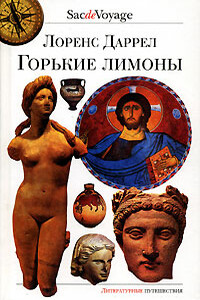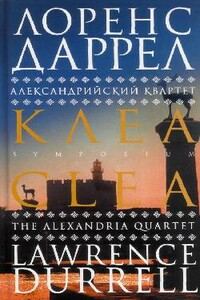Жюстин | страница 53
Бывало, бродя с ним вдвоем вдоль канала над тусклым бархатом густой кофейной жижи, я ловил себя на том, что пытаюсь вычислить ту неуловимую черту, которая так меня в нем привлекала. Тогда я еще ничего не знал о Кружке. Бальтазар много читает, но речь его отнюдь не перегружена разного рода литературщиной, как у Персуордена. Он любит поэзию, любит притчи, любит науку и софистику, но за шахматными ходами его мысли кроются здравый смысл и деликатность. Есть кое-что и глубже, под деликатностью, - некое глухое эхо, оно придает его мысли густоту и плотность. Он склонен говорить афоризмами и смахивает порой на этакого местного оракула. Теперь я понимаю, что он относится к числу тех редких людей, которые выстроили для себя философскую систему и нашли свое призвание в том, чтобы по мере сил ей соответствовать. Вот здесь-то, мне кажется, и скрывается то не поддающееся анализу свойство, что придает его манере говорить остроту английской бритвы.
Он врач и большую часть своего рабочего времени проводит в государственной венерической клинике. (Однажды он сухо обронил: "Я живу в самом центре жизнедеятельности этого Города - в его мочеполовой системе: отрезвляющее, надо сказать, местечко".) И еще - он единственный известный мне человек, педерастические наклонности которого никак не отразились на врожденном мужском складе ума. Он не пуританин, но и не наоборот. Несколько раз я врывался в его маленькую комнату на рю Лепсиус - в комнату со скрипучим камышовым креслом - и заставал его спящим в одной постели с каким-нибудь матросом. Он не выказывал никакого смущения и даже не пытался как-то объяснить присутствие своего приятеля. Одеваясь, он иногда поворачивался, чтобы подоткнуть вокруг спящего простыню. Подобную непринужденность я воспринимал как комплимент.
В нем много разного понамешано: иногда я слышал, как голос его дрожит от переизбытка чувств, когда он толкует какой-нибудь аспект каббалы и старается прояснить его для членов Кружка. Но однажды, когда я с воодушевлением рассуждал о некоторых его замечаниях, он вздохнул и сказал с великолепным александрийским скепсисом, который непостижимым образом угадывается за безраздельной верой и приверженностью Гносису: "Все мы ищем разумных доводов, чтобы уверовать в абсурд". В другой раз после долгого и утомительного спора с Жюстин о среде и наследственности он сказал: "Ах, моя дорогая, после того как философы потрудились над нашей душой, а врачи - над нашим телом, что можем мы знать о человеке достоверно? Только то, что он, когда все сказано и сделано, - всего лишь труба для прохождения жидкостей и твердых тел, бочонок мяса".