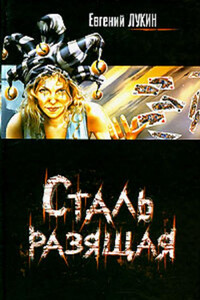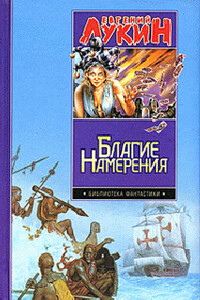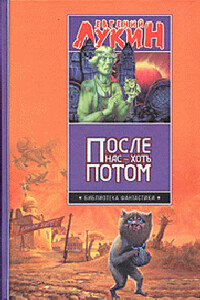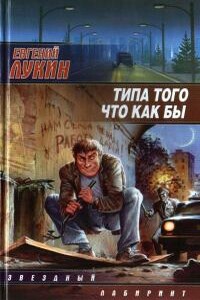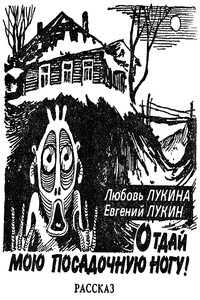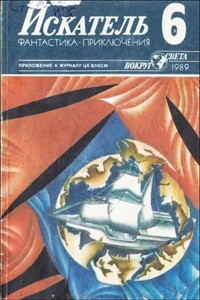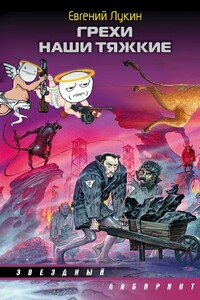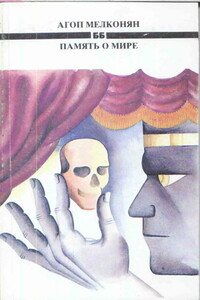Нон-фикшн | страница 63
Зачем вообще нужна критика, я не знаю. Мало того, я даже не знаю, зачем нужна литература, не говоря уже об искусстве в целом, но в эти дебри лучше не углубляться, иначе мы, подобно герою того же А. П. Чехова, придм к мысли, что всё на свете – лишнее. Впрочем, при советской власти польза от критики была очевидна, ибо рецензенты, избирательно ругая лучшие книги, помогали читающей публике сориентироваться.
В те баснословные времена в наших широтах обитало два подвида критиков: цепной и учёный. Цепных легко можно было отличить по следующим признакам: бесконечная преданность хозяину, дубоватый язык, склонность к риторике, упрощённая до уровня школьного учебника терминология, принципиальное непонимание прочитанного и умение доказывать два прямо противоположных утверждения сразу. Критики учёные, напротив, делали вид, что хозяин – сам по себе, а они – сами по себе. Правда, за эту нечеловеческую отвагу им приходилось довольно дорого расплачиваться, усложняя текст до полной его непонимабильности простыми смертными. Хозяин (сам не шибко грамотный), дойдя до термина «амбивалентность», ощущал некое внутреннее неудобство и, убоявшись бездны премудростей, статью до конца не дочитывал. Публика – тоже.
Насколько я могу судить, в наши дни ареал обитания учёных критиков ограничен элитарной литературой («мэйнстрим»), в то время как критики цепного подвида успешно освоили патриотическую нишу и, представьте, фантастику. Именно такое ощущение остаётся после прочтения большинства нынешних рецензий (как положительных, так и отрицательных). Был случай, когда друзья-фантасты долго убеждали меня в том, что опубликованный в прессе отзыв не является блистательной пародией на разгромные статьи застойных лет и написан на полном серьёзе.
Вначале я полагал, что явление это – реликтовое. Дескать, авторы – бывшие фэны с трудной судьбой, на собственных маковках изведавшие тяжесть критической дубины ушедших времен и многому научившиеся у противника. Однако опыт показывает, что, чем моложе рецензент – тем совковее (в худшем смысле этого слова).
Нет, кое в чём, конечно, цепной критик изменился. Ушла бесконечная преданность хозяину, а взамен явилось упоительное чувство вседозволенности, порождённое свободой слова. Всё прочее осталось (см. выше).
Повторяю: я не знаю, кому и зачем нужна критика. Но коль скоро она существует, то пусть хотя бы прилично выглядит. Кстати, я не против цепного критика как подвида; при нынешнем наплыве графоманов он даже может кому-то показаться полезным существом, этаким санитаром фантастических дебрей. Увы, издателю он – не указ. То же касается и критика учёного, встречающегося в наших джунглях гораздо реже.